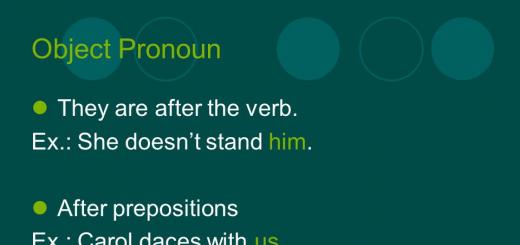ГУЛАГ (1930–1960) — основанное в системе НКВД Главное управление исправительно-трудовых лагерей. Считается символом бесправия, рабского труда и произвола советского государства времен сталинизма. В настоящее время многое про ГУЛАГ можно узнать, если посетить музей истории ГУЛАГа.
Советскую тюремно-лагерную систему начали формировать почти сразу после революции. С самого начала образования этой системы ее особенностью было то, что для уголовников имелись одни места заключения, а для политических противников большевизма – иные. Была создана система так называемых «политизоляторов», а также образованное в 1920-х годах Управление СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения).
В обстановке индустриализации и коллективизации уровень репрессий в стране резко возрастал. Появилась надобность в увеличении числа узников для привлечения их труда на промышленных стройках, а также для заселения почти безлюдных, не очень развитых в экономическом плане районов СССР. После принятия постановления, регламентирующего труд «зеков», содержать всех осужденных со сроками от 3-х лет и более стало Объединённое государственное политическое управление, в своей системе ГУЛАГ.
Было решено все новые лагеря создавать лишь в удаленных безлюдных районах. В лагерях занимались эксплуатацией природных богатств с применением труда осужденных. Освободившиеся заключенные не отпускались, а закреплялись к прилегающим к лагерям территориям. Был организован перевод «на вольные поселения» тех, кто заслуживал этого. Разделялись «зеки», выселявшиеся за пределы обжитой местности, на особо опасных (всех политзаключенных) и малоопасных. При этом была экономия на охране (побеги в тех местах были меньшей угрозой, чем в центре страны). Кроме того, создавались запасы бесплатной рабсилы.

Общая численность осужденных в ГУЛАГе быстро росла. В 1929 году их было около 23 тыс., через год – 95 тыс., еще через год – 155 тыс. чел., в 1934 было уже 510 тыс. чел., не считая этапируемых, а в 1938 году свыше двух миллионов и это только официально.
Для лесных лагерей не требовалось больших затрат по обустройству. Однако то, что творилось в них, у любого нормального человека просто не укладывается в голове. Многое можно узнать, если посетить музей истории ГУЛАГа, многое со слов, выживших очевидцев, из книг и документальных или художественных фильмов. Много имеется рассекреченной информации об этой системе, особенно в бывших советских республиках, но в России еще имеется множество сведений о ГУЛАГе с грифом «секретно».
Множество материалов можно найти в самой известной книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» или в книге «ГУЛАГ» Данцига Балдаева. Так, например Д. Балдаев получил материалы от одного из бывших надзирателей, который продолжительное время прослужил в системе ГУЛАГа. Тогдашняя система ГУЛАГ и до сей поры не вызывает у адекватных людей ничего, кроме изумления.
Женщины в ГУЛАГе: для усиления «психического давления» их допрашивали обнаженными
Для выбивания из арестованных необходимых для следователей показаний у ГУЛАГовских «знатоков» имелось множество «наработанных» методов. Так, например, для тех, кто не желал «чистосердечно во всем признаваться», перед следствием сначала «втыкали мордой в угол». Это означало, что людей ставили лицом к стенке в положении «смирно», при котором отсутствовала точка опоры. В такой стойке людей держали круглыми сутками не давая, есть, пить и спать.
Тех, кто терял сознание от бессилия, продолжали избивать, обливать водой и водворять на прежние места. С более крепкими и «несговорчивыми» «врагами народа» кроме банального в ГУЛАГе зверского избиения пользовались куда более изощренными «методами дознания». Таких «врагов народа», например, подвешивали на дыбу с гирями или другими грузами, привязанными к ногам.
Женщины и девушки для «психологического давления» часто присутствовали на допросах совершенно нагими, подвергаясь насмешкам и оскорблениям. Если они не признавались, то подвергались изнасилованию «хором» в самом кабинете дознавателя.
Изобретательность и предусмотрительность ГУЛАГовских «работников» поистине изумляла. Для обеспечения себе «анонимности» и лишения осужденных возможностей для уклонения от ударов, жертвы перед допросами запихивались в узкие и длинные мешки, которые завязывались и опрокидывались на пол. Вслед за этим находящиеся в мешках люди до полусмерти избивались с помощью палок и сыромятных ремней. Именовалось это в кругу своих «забиванием кота в мешке».

Широкой популярностью пользовалась практика избиения «членов семьи врагов народа». Для этого выбивались показания у отцов, мужей, сыновей или братьев арестованных. К тому же они часто находились во время издевательств над своими родными в одном помещении. Делалось это для «усиления воспитательных воздействий».
Зажатые в тесных камерах, осужденные стоя умирали

Отвратительнейшей пыткой в ГУЛАГовских СИЗО было применение к задержанным так называемых «отстойников» и «стаканов». Для этой цели в тесной камере, без окон и вентиляции, набивали по 40-45 человек на десяти квадратных метрах. Вслед за тем камеру плотно «запечатывали» на сутки и более. Притиснутым в душной камере, людям приходилось испытывать невероятные страдания. Многим из них приходилось погибать, так и оставшись в стоячем положении, поддерживаемыми живыми.
О выводе в туалет, при содержании в «отстойниках» конечно же, не могло быть и речи. Отчего естественные потребности людям приходилось отправлять прямо на месте, на себя. В результате «врагам народа» приходилось стоя задыхаться в условиях ужасного зловония, поддерживая мертвых, которые скалились последней «улыбкой» прямо в лица живым.
Не лучше обстояли дела и с выдерживанием «до кондиции» заключенных в так называемых «стаканах». «Стаканами» называли узкие, как гробы, железные пеналы или ниши в стенах. Втиснутые в «стаканы» заключенные не могли ни сесть, а тем более лечь. В основном «стаканы» были настолько узкими, что в них нельзя было и шевельнуться. Особо «упорствующие» помещались на сутки и более в «стаканы», в которых нормальным людям не возможно было выпрямляться в полный рост. Из-за этого они неизменно находились в скрюченных, полусогнутых положениях.
«Стаканы» с «отстойниками» подразделялись на «холодные» (которые находились в не отапливаемых помещениях) и «горячие», на стенах которых были специально размещены батареи отопления, дымоходы печей, трубы теплоцентралей и пр.
Для «повышения трудовой дисциплины» охрана расстреливала каждого замыкающего строй осужденного
Прибывающие осужденные из-за нехватки бараков находились на ночное время в глубоких котлованах. Утром они поднимались по лестнице и приступали к постройке для себя новых бараков. Учитывая 40-50 градусные морозы в северных регионах страны, временные «волчьи ямы» могли делаться чем-то вроде братских могил для вновь прибывших осужденных.
Не прибавлялось здоровья замученным на этапах зекам и от ГУЛАГовских «шуток», именуемых охраной «подданием пара». Для «усмирения» вновь прибывшего и возмущенного длительным ожиданием в локальной зоне перед приемом в лагере нового пополнения проводили следующий «ритуал». При 30-40 градусных морозах они внезапно обливались пожарными шлангами, после этого их еще 4-6 часов «додерживали» на улице.

С нарушителями дисциплины в процессе работы тоже «шутили». В северных лагерях это называлось «голосованием на солнце» или «сушкой лапок». Осужденным, угрожая немедленным расстрелом при «попытке к бегству», приказывали стоять в лютые морозы с поднятыми вверх руками. Они так стояли в течение всего рабочего дня. Порой «голосовавших» заставляли стоять «крестом». При этом заставляли руки расставлять в стороны, и даже стоять на одной ноге, как «цапля».
Еще один яркий пример изощренного садизма, о котором честно расскажет не каждый музей истории ГУЛАГа, это существование одного зверского правила. О нем уже упоминалось и гласило оно так: «без последнего». Его вводили и рекомендовали к исполнению в отдельных лагерях сталинского ГУЛАГа.
Так, для «уменьшения количества зеков» и «повышения трудовой дисциплины» охрана имела приказ по расстрелу всех осужденных, которые становились последними в строй рабочих бригад. Последнего, замешкавшегося зека, в таком случае тут же расстреливали при попытке к бегству, а остальные продолжали «играть» в эту смертельную игру с каждым новым днем.
Наличие «сексуальных» пыток и убийств в ГУЛАГе
Вряд ли женщинам или девушкам, в разные времена и по разным причинам, попавшим в лагеря в качестве «врагов народа», в самых страшных кошмарах могло привидеться то, что их ждало. Прошедшие круги изнасилований и позора в ходе «допросов с пристрастием», прибыв в лагеря, к самым привлекательным из них применялось «распределение» по начсоставу, а прочие поступали в почти беспредельное использование охраной и блатными.
В ходе этапирования молодых женщин-осужденных, главным образом, уроженок западных и только что присоединенных балтийских республик, целенаправленно заталкивали в вагоны с отпетыми урками. Там на протяжении всего продолжительного маршрута следования их подвергали многочисленным изощренным групповым изнасилованиям. Доходило до того, что они не доживали до конечного пункта прибытия.

«Пристраивание» несговорчивых арестанток в камеры к блатным на сутки и более практиковалось и в ходе проведения «следственных действий» для «побуждения у арестованных дачи правдивых показаний». В женских зонах вновь прибывших арестанток «нежного» возраста часто делали добычей мужеобразных зечек, у которых наблюдались ярко выраженные лесбийские и иные сексуальные отклонения.
Для того чтобы «усмирять» и «приводить к надлежащему страху» при этапировании, на суднах, транспортировавших женщин в районы Колымы и иных дальних пунктов ГУЛАГа, на пересылках конвой преднамеренно допускал «смешивание» женщин с урками, следовавшими с новой «ходкой» в места «не столь отдаленные». После массовых изнасилований и резни трупы женщин, не перенесших всех ужасов общего этапирования, выбрасывали за борт судна. При этом их списывали как погибших от болезней или убитых при попытке к бегству.
В некоторых лагерях как наказание практиковали «случайно совпавшие» общие «помывки» в бане. На несколько моющихся в бане женщин внезапно набрасывался ворвавшийся в банное помещение озверевший отряд из 100-150 зеков. Практиковали и открытую «торговлю» «живым товаром». Женщин продавали на разное «время пользования». После чего заранее «списанных» зечек, ожидала неизбежная и ужасная смерть.
Говорят, что смерть у всех людей одна. Неправда. Смерть смерти рознь, и для того, чтобы убедиться в этом, достаточно лишь на мгновение заглянуть, чуть раздвинув руками ряды ржавой «колючки», в прошлое огромной и страшной страны, именуемой ГУЛАГ. Заглянуть и почувствовать себя жертвой.
Эти материалы автору книги «ГУЛАГ» Данцигу Балдаеву предоставил бывший надзиратель, который долгое время проработал в системе ИТУ. Особенности нашей «исправительной системы» до сих пор вызывают изумление. Возникает ощущение, что эти особенности зародились еще в те годы, когда за колючей проволокой находилась большая часть населения страны.
Женщин для усиления «психического воздействия» нередко приводили на допросы голыми
Для того, чтобы выбить из арестованного нужные показания, у «специалистов» ГУЛАГа существовало множество «отработанных» на «живом материале» способов, практически не оставляющих заключенному возможности «затаиться» и «скрыть правду от следствия». В частности, не желающих «добровольно во всем признаться», во время следствия могли для начала «воткнуть мордой в угол», то есть поставить лицом к стене по стойке «смирно» без точки опоры, и продержать в таком положении несколько суток без пищи, воды и сна. Падающих в обморок от потери сил избивали, обливали водой и водворяли на прежнее место. К более крепким и «несговорчивым» «врагам народа» наряду с банальным в ГУЛАГе зверским избиением применялись и более изощренные «методы дознания», например, подвешивание на дыбу с гирей или другим грузом, привязанным к ногам для того, чтобы кости вывернутых рук выскакивали из суставов. Женщин и девушек с целью «психического воздействия» нередко приводили на допросы абсолютно голыми, подвергая при этом граду насмешек и оскорблений. Если же и это не оказывало должного эффекта, жертву в довершение ко всему насиловали «хором» прямо в кабинете у следователя.
Большой популярностью у палачей пользовался так называемый «андреевский крест» - приспособление для удобства «работы» с гениталиями заключенных-мужчин - «осмаливания» их паяльной лампой, раздавливания каблуком, защемления и т. п. Приговоренного к пытке на «андреевском кресте» в буквальном смысле распинали на двух скрепленных буквой «Х» балках, что лишало жертву всякой возможности сопротивляться, предоставляя «специалистам» возможность «работать без помех».
Изобретательности и предусмотрительности гулаговских «работников» действительно можно подивиться. Для того чтобы обеспечить себе «анонимность» и лишить заключенного возможности хоть как-то уклоняться от ударов, жертву на допросах запихивали в узкий и длинный мешок, который завязывали, опрокидывали на пол. После чего до полусмерти избивали находящегося в мешке палками и сыромятными ремнями. Называлось это между своими «забить кота в мешке». Широко применялись на практике и избиение «членов семьи врага народа» с целью выбить показания против отца, мужа, сына, брата. Причем последние нередко присутствовали при издевательствах над своими близкими с «целью усиления воспитательного воздействия». Одному лишь Богу да палачам ГУЛАГа известно, сколько «шпионов в пользу Антарктиды» и «резидентов австралийской разведки» появилось в лагерях после таких вот «совместных допросов».
Одним из испытанных приемов вырвать «признание» у «врага народа» был так называемый «пищик». Во время допроса «молотобойцы» неожиданно надевали жертве на голову резиновый мешок, перекрывающий дыхание. После нескольких таких «примерок» у жертвы начиналось кровотечение из носа, рта и ушей, многие, имевшие надорванное сердце, умирали прямо на допросах, так и не успев толком «покаяться».
Прижатые друг к другу в тесной камере, заключенные умирали стоя
Стойким и прямо-таки маниакально-притягательным интересом пользовался у гулаговских спецов задний проход каждого отдельно взятого «врага народа». Не ограничившись усиленными поисками в нем «компромата» во время многочисленных «шмонов» (для этого в задний проход согнутому и растопырившемуся зеку залезали пальцами), они нередко применяли на допросах (видимо, в качестве «стимулирующего память» средства) так называемое «прочищение очка»: намертво привязанному к скамье в соответствующей позе заключенному начинали заталкивать в задний проход металлический и деревянные штыри, «ерши», используемые для очистки ржавчины с металлических поверхностей, различные предметы с острыми гранями и т. п. Верхом «искусства» при проведении такого «анального допроса» считалось умение забить «врагу народа» в очко бутылку, не разбив ее при этом, не разорвав упрямцу прямую кишку. Применялся подобный «метод» в извращенно-садистском виде и по отношению к женщинам.
Одной из самых отвратительных пыток в гулаговских тюрьмах и следственных изоляторах являлось содержание заключенных в так называемых «отстойниках» и «стаканах». Для этого в тесную камеру, не имеющую окон и вентиляционных отверстий, набивалось до 40-45 человек на десять квадратных метров площади, после чего камера плотно «запечатывалась» на несколько суток. Прижатые друг к другу в тесноте и духоте камеры, люди испытывали неимоверные мучения, многие из них погибали, но так и оставались стоять, поддерживаемые со всех сторон живыми. В туалет, естественно, при содержании в «отстойнике» не выводили, поэтому естественные надобности люди отправляли прямо здесь, нередко на себя. Так и стояли «враги народа», задыхаясь в страшном зловонии, поддерживая плечами мертвых, скалящихся в последней «улыбке» живым прямо в лицо. А над всем этим, в кромешной тьме, клубился ядовитый от испарения пар, от которого стены камеры покрывались мерзкой слизью
Немногим лучше было и выдерживание «до кондиции» заключенного в так называемом «стакане». «Стакан» - это, как правило, узкий, как гроб, железный пенал, вделанный в нишу в стене. Втиснутый в «стакан» заключенный не мог ни присесть, ни тем более прилечь, нередко «стакан» был настолько узок, что в нем невозможно было даже пошевелиться. Особо «упорствующих» помещали на несколько суток в «стакан», в котором нормальный человек не мог выпрямиться в полный рост, постоянно находясь в скрюченном, полусогнутом положении. «Стаканы» и «отстойники» могли быть как «холодными» (расположенными в неотапливаемых помещениях), так и «горячими», по стенам которых специально размещались батареи центрального отопления, печные дымоходы, трубы теплоцентрали и т. п. Температура в таких «отстойниках» редко опускалась ниже 45-50 градусов. Кроме «холодных» отстойников, при строительстве некоторых колымских лагерей широко применялось содержание заключенных в так называемых «волчьих ямах».
Для «поднятия трудовой дисциплины» конвой расстреливал каждого последнего в строю заключенного
Прибывшие на Север этапы заключенных из-за отсутствия бараков загонялись на ночь в глубокие котлованы, а днем, поднятые по лестнице на поверхность, несчастные строили для себя новый ИТЛ. При 40-50 градусных морозах подобные «волчьи ямы» нередко становились братскими могилами для очередной партии заключенных. Не прибавляла здоровья измученным на этапах людям и гулаговская «шутка», называющаяся у охраны «поддать пару». Для «успокоения» только что прибывших и возмущенных долгим ожиданием в «локалке» перед приемом в ИТЛ, заключенных при морозе 30-40 градусов неожиданно обливали с вышек из пожарных шлангов, после чего еще 4-6 часов «выдерживали» на морозе. К нарушителям дисциплины во время работы применялась и еще одна «шутка», называемая в северных лагерях «голосовать на солнце» или «сушить лапки», Заключенного под страхом немедленного расстрела за «попытку к бегству» ставили в лютый мороз с поднятыми вверх вертикально руками, оставляя так на протяжении всего многочасового рабочего дня. «Голосовать» ставили иногда «крестом», то есть руки в сторону на ширине плеч, или на одной ноге, «цаплей» - по прихоти конвоя.
Особой циничностью и жестокостью отличалась пытка, применяемая против «врагов народа» в печально известном СЛОНе - Соловецком лагере особого назначения. Здесь, в ШИЗО на горе Секирной, расположенном в храме Вознесения, приговоренных к наказанию заключенных заставляли «возноситься», то есть сажали на специальные шесты-насесты, расположенные в нескольких метрах от пола, и держали сутками на этих «сидениях». Тех, кто падал с «насестов» от усталости, конвой подвергал «веселью» - зверскому избиению с последующим водружением на «насест», но уже с петлей на шее. Упавший второй раз, таким образом, якобы «выносил сам себе» смертный приговор. Отъявленных же нарушителей лагерной дисциплины приговаривали к страшной смерти - спускали с горы Секирной вниз по лестнице, привязанными за руки к концу тяжелого бревна. Лестница эта насчитывала 365 ступеней и называлась у заключенных «Годовой», «Молотилкой» или «Лестницей смерти». Жертвы - заключенные из «классовых врагов» - в конце такого спуска по «Лестнице смерти» представляли из себя кровавое месиво.
Ярким примером изощренного садизма может служить и зверское правило «без последнего», введенное и рекомендованное к исполнению в некоторых лагерях сталинского ГУЛАГа: в целях «сокращения числа зеков» и «поднятия трудовой дисциплины» конвою было приказано расстреливать каждого заключенного, который становился последним в строй рабочих бригад по команде «На работу становись!» Последний, замешкавшийся зек, таким образом немедленно отправлялся «в рай» при попытке к бегству, а для остальных смертельная игра в «кошки-мышки» ежедневно возобновлялась
«Сексуальные» пытки и убийства в ГУЛАГе
Едва ли женщинам и тем более девушкам, в разное время и по разным причинам попадавшим в тюрьмы с клеймом «врага народа», даже в самых кошмарных снах могло представиться их недалекое будущее. Изнасилованные и опозоренные в процессе «следствия в камерах и кабинетах во время „допросов с пристрастием“, по прибытии в ГУЛАГ самые привлекательные из них „распределялись“ по начальству, остальные же поступали в практически безраздельное пользование и владение конвоя и блатных.
Во время этапов молодые женщины-заключенные, как правило, уроженки западных и вновь присоединенных прибалтийских территорий, специально заталкивались в вагоны к отпетым уркам, где в течении всего длительного пути подвергались изощренному групповому изнасилованию, нередко не доживая до прибытия на конечный пункт этапа. Практика „пристраивания“ несговорчивой арестантки в камеру к уголовникам на несколько суток практиковалась и при проведении „следственных мероприятий“ с целью „побуждения арестованной к даче правдивых показаний“. В женских зонах вновь прибывшие арестантки „в нежном“ возрасте нередко становились добычей мужеподобных зечек с ярко выраженными лесбийскими и другими сексуальными отклонениями. Насилование в таких зонах так называемых „курочек“ с помощью подручных предметов» (ручкой от швабры, чулком, плотно набитым ветошью и т. д.), склонение их к лесбийскому сожительству со всем бараком стало в ГУЛАГе делом привычным.
В целях «усмирения» и «приведения в надлежащий страх» во время этапов, на кораблях, перевозивших женщин на Колыму и другие отдаленные пункты ГУЛАГа, на пересылках конвоем умышленно допускалось «смешивание» женских партий «с воли» с партиями уголовников, следовавших в очередной раз к месту «назначения». После массового изнасилования и резни трупы не вынесших всего ужаса совместного этапирования выбрасывались за борт корабля в море, списывались как погибшие от болезней или убитые при попытке к бегству. В отдельных лагерях в виде наказания практиковались также и «случайно совпавшие» общие «помывки» в бане, когда на десяток специально отобранных моющихся в бане женщин вдруг набрасывалась ворвавшаяся в банное помещение озверевшая толпа зеков в 100-150 человек. Широко практиковалась и открытая «продажа» уголовникам «живого товара» во временное и постоянное пользование, после которого заранее «списанную» зечку, как правило, ждала неминуемая и страшная смерть.
В 1927 году в Москве в воздух поднялся первый самолет конструктора Яковлева «Як-1».
В 1929 году введено пенсионное обеспечение по старости.
В 1929 году впервые в СССР с воздуха проведено опыление лесов ядохимикатами.
В 1932 году открылась Военная академия химической защиты.
1946 год - в СССР осуществлены первые полеты на реактивных самолетах «МиГ-9» и «Як-15».
В 1951 году Международный Олимпийский комитет принял решение о допущении на олимпиады спортсменов из СССР.
В 1959 году на съезде журналистов УССР создан Союз журналистов Украины.
В 1967 году в Киеве открыт обелиск городу-герою Киеву.
В 1975 году в Донецке введена в строй самая глубокая в стране (1200 метров) шахта им. Скочинского.
В 1979 году в Киеве открылся театр драмы м комедии.
Советский скрипач занял второе место на зарубежном международном конкурсе и с грустью говорит сопровождающему его музыкальному критику:
Занял бы я первое место, получил бы скрипку «Страдивари»!
У тебя ведь отличная скрипка.
Ты понимаешь, что такое «Страдивари»? Это для меня то же, что для тебя маузер Дзержинского!
***
Почему СССР не запускает людей на Луну?
Боятся, что они станут невозвращенцами.
***
Рабинович работает на конвейере завода, выпускающего детские коляски. Жена уговорила его воровать по одной детали в неделю, чтобы собрать коляску для будущего ребенка. Через девять месяцев Рабинович сел за сборку.
Знаешь, жена, как я не собираю, все пулемет получается.
***
Кто твой отец? - спрашивает учительница Вовочку.
Товарищ Сталин!
А кто твоя мать?
Советская Родина!
А кем ты хочешь стать?
Сиротой!
***
Метатель молота только что установил всесоюзный рекорд и красуется перед обступившей его публикой:
Дали бы мне серп - я б его и не туда забросил!
***
Знаменитый русский певец Вертинский, уехавший еще при царе, возвращается в Советский Союз. Он выходит из вагона с двумя чемоданами, ставит их, целует землю, смотрит вокруг:
Не узнаю тебя, Русь!
Потом оглядывается - чемоданов нет!
Узнаю тебя, Русь!
***
Есть ли профессиональные воры в СССР?
Нет. Люди сами воруют.
Глава 8. Женщина в лагере
Да как же не думать было о них еще на следствии? - ведь в соседних
где-то камерах! в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это
следствие - им-то, слабым, как перенести?!
В коридорах беззвучно, не различишь их походки и шелеста платьев. Но вот
бутырский надзиратель завозится с замком, оставит мужскую камеру полминуты
перестоять в верхнем светлом коридоре вдоль окон, - и вниз из-под
намордника коридорного окна, в зеленом садике на уголке асфальта вдруг видим
мы так же стоящих в колонне по двое, так же ожидающих, пока отопрут им дверь
Щиколотки и туфельки женщин! - только щиколотки и туфельки да на высоких
каблуках! - и это как вагнеровский удар оркестра в "Тристане и Изольде"! -
мы ничего не можем углядеть выше, и уже надзиратель загоняет нас в камеру,
мы бредем освещенные и омраченные, мы пририсовали всё остальное, мы
вообразили их небесными и умирающими от упадка духа. Как они? Как они!..
Но, кажется, им не тяжелее, а может быть и легче. Из женских воспоминаний
о следствии я пока не нашел ничего, откуда бы заключить, что они больше нас
бывали обескуражены или упали духом ниже. Врач-гинеколог Н. И. Зубов, сам
отсидевший 10 лет и в лагерях постоянно лечивший и наблюдавший женщин,
говорит, правда, что статистически женщина быстрее и ярче мужчины реагирует
на арест и главный его результат - потерю семьи. Она душевно ранена и это
чаще всего сказывается на пресечении уязвимых женских функций.
А меня в женских воспоминаниях о следствии поражает именно: о каких
"пустяках" с точки зрения арестантской (но отнюдь не женской!) они могли там
думать. Надя Суровцева, красивая и еще молодая, надела впопыхах на допрос
разные чулки, и вот в кабинете следователя её смущает, что допрашивающий
поглядывает на её ноги. Да казалось бы и чёрт с ним, хрен ему на рыло, не в
театр же она с ним пришла, к тому ж она едва ль не доктор (по-западному)
философии и горячий политик - а вот поди ж ты! Александра Острецова,
сидевшая на Большой Лубянке в 1943-м, рассказывала мне потом в лагере, что
они там часто шутили: то прятались под стол, и испуганный надзиратель входил
искать недостающую; то раскрашивались свеклой и так отправлялись на
прогулку; то уже вызванная на допрос, она увлеченно обсуждала с
сокамерницами: идти ли сегодня одетой попроще или надеть вечернее платье?
Правда, Острецова была тогда избалованная шалунья да и сидела-то с ней
молоденькая Мира Уборевич. Но вот уже в возрасте и ученая, Н. И. П-ва
оттачивала в камере алюминиевую ложку. Думаете - зарезаться? нет, косы
обрезать (и обрезала)!
Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом
свежеосужденных, как и мы, женщин, и я с удивлением ясно увидел, что все они
не так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равная для всех тюремная
пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не
сдают так быстро от голода.
Но и для всех нас, а для женщины особенно, тюрьма - это только цветочки.
Ягодки - лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись,
переродясь, приспособиться.
В лагере, напротив, женщине всё тяжелее, чем нам. Начиная с лагерной
нечистоты. Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не
находит чистоты и в лагере. В среднем лагере в женской рабочей бригаде и,
значит, в общем бараке, ей почти никогда невозможно ощутить себя
по-настоящему чистой, достать теплой воды (иногда и никакой не достать: на
1-м Кривощековском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только
мерзлая вода, и растопить негде). Никаким законным путем она не может
достать ни марли, ни тряпки. Где уж там стирать!..
Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь - если не считать
выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на горбу среди
конвоя и собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар.
Будет ли вода в бане или нет, но осмотр на вшивость, бритье подмышек и
лобков дают не последним аристократам зоны - парикмахерам, возможность
рассмотреть новых баб. Тотчас же их будут рассматривать и остальные придурки
Это традиция еще соловецкая, только там, на заре Архипелага, была
нетуземная стеснительность - и их рассматривали одетыми, во время подсобных
работ. Но Архипелаг окаменел и процедура стала наглей. Федот С. и его жена
(таков был рок их соединиться!) теперь со смехом вспоминают, как придурки
мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин
пускали по этому коридору голыми, да не сразу всех, а по одной. Потом между
придурками решалось, кто кого берет. (По статистике 20-х годов у нас сидела
в заключении одна женщина на шесть-семь мужчин. *(1) После Указов 30-х и
40-х годов соотношение это немного выравнялось, но не настолько, чтобы
женщин не ценить, особенно привлекательных.) В иных лагерях процедура
сохранялась вежливой: женщин доводят до их барака - и тут-то входят сытые,
в новых телогрейках (не рваная и не измазанная одежда в лагере уже сразу
выглядит бешеным франтовством!) уверенные и наглые придурки. Они не спеша
прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают.
Приглашают сходить к ним "в гости". А они живут не в общем барачном
помещении, а в "кабинках" по несколько человек. У них там и электроплитка, и
сковородка. Да у них жареная картошка! - мечта человечества! На первый раз
просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни.
Нетерпеливые тут же после картошки требуют и "уплаты", более сдержанные идут
проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, милая, в [зоне],
пока предлагают по-джентльменски. Уж и чистота, и стирка, и приличная
одежда, и неутомительная работа - всё твое.
И в этом смысле считается, что женщине в лагере - "легче". Легче ей
смотрят на женщин, не опустившихся до помойки, естественно рассудить, что
женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой и раз есть у нее
путь избежать голода и остаться в живых. Для исступленно-голодного весь мир
заслонен крылами голода, и больше несть ничего в мире.
И правда, есть женщины, кто по натуре вообще и на воле легче сходится с
мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты
легкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по [статьям]
Уголовного кодекса, - однако, вряд ли ошибемся сказав, что большинство
Пятьдесят Восьмой составляют женщины не такие. Иным с начала и до конца этот
шаг непереносимее смерти. Другие ёжатся, колеблются, смущены (да удерживает
и стыд перед подругами), а когда решатся, когда смирятся - смотришь,
поздно, они уже не идут в лагерный спрос.
Потому что [предлагают] не каждой.
Так еще в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается -
и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужниными женами, с матерями
семейств делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы
лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными.
А - нет? Что ж, смотри! Надевай штаны и бушлат. И бесформенным, толстым
снаружи и хилым внутри существом, бреди в лес. Еще сама приползешь, еще
кланяться будешь.
Если ты приехала в лагерь физически сохраненной и сделала [умный] шаг в
первые же дни - ты надолго устроена в санчасть, в кухню, в бухгалтерию, в
швейную или прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю.
Случится этап - ты и на новое место приедешь вполне в расцвете, ты и там
уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов -
стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь
дородная холеная И. Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского
командира, начальник УРЧа тотчас её высмотрел и дал почетное назначение мыть
полы в кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая,
что это - удача.
Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть
верна! Какая корысть в верности мертвячки? ["выйдешь на волю - кому ты
будешь нужна?"] - вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь,
стареешь, безрадостно и пусто пройдут последние женские годы. Не разумнее ли
что-то спешить взять и от этой дикой жизни?
Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. "Здесь все так
Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.
Те, кто не уступили сразу - или одумаются, или их заставят всё же
уступить. Самым упорным, но если собой хороша - сойдется, сойдется на клин
Сдавайся!
Была у нас в лагерьке на Калужской заставе (в Москве) гордая девка М.,
лейтенант-снайпер, как царевна из сказки - губы пунцовые, осанка лебяжья,
волосы вороновым крылом. *(2) И наметил купить её старый грязный жирный
кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще отвратителен на взгляд, а ей, при
её упругой красоте, при её мужественной недавней жизни особенно. Он был
корягой гнилой, она - стройным тополем. Но он обложил её так тесно, что ей
не оставалось дохнуть. Он не только обрек её общим работам (все придурки
действовали слаженно, и помогали ему в облаве), придиркам надзора (а [на
крючке] у него был и надзорсостав) - но и грозил неминуемым худым далеким
этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому
увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М. прошла тенью от женского
барака и с опущенной головой постучала в каптерку алчного Бершадера. После
этого она хорошо была устроена в зоне.
М. Н., уже средних лет, на воле чертежница, мать двоих детей, потерявшая
мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале - и всё
упорствовала, и была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы
тащилась в хвосте колонны, и конвой подгонял её прикладами. Как-то осталась
на день в зоне. [Присы"пался] повар: приходи в кабинку, от пуза накормлю.
Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду жареной картошки со
свининой. Она всю съела. Но после расплаты её вырвало - и так пропала
картошка. Ругался повар: "Подумаешь, принцесса!" А с тех пор постепенно
привыкла. Как-то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама
выбирала себе мужика на ночь.
А кто прождет дольше - то самой еще придется плестись в общий мужской
барак, уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно
повторять: "Полкило... полкило..." И если избавитель пойдет за нею с пайкой,
то завесить свою вагонку с трех сторон простынями, и в этом шатре, шалаше
(отсюда и "шалашовка") заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет
надзиратель.
Вагонка, обвешанная от соседок тряпьем - классическая лагерная картина.
Но есть и гораздо проще. Это опять-таки кривощековский 1-й лагпункт,
1947-1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте - блатные,
бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки - всё перемешано. Женский
барак всего один - но на пятьсот человек. Он - неописуемо грязен,
несравнимо грязен, запущен, в нем тяжелый запах, вагонки - без постельных
принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить - но
он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но
валили малолетки, мальчики по 12-13 лет шли туда обучаться. Сперва они
начинали с простого наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не
хватало ли тряпья, или времени - но [вагонки не завешивались], и конечно,
никогда не тушился свет. Всё совершалось с природной естественностью, на
виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство
были защитой женщины - и больше ничто. Привлекательность была проклятьем, у
такой непрерывно сидели гости на койке, её постоянно окружали, её просили и
ей угрожали побоями и ножом - и не в том уже была её надежда, чтоб устоять,
но - сдаться-то умело, но выбрать такого, который потом угрозой своего
имени и своего ножа защитит её от остальных, от следующих, от этой жадной
череды, и от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут
видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? и только ли малолетки
растравлены? - а женщины, которые рядом изо дня в день всё это видят, но их
самих не спрашивают мужчины - ведь эти женщины тоже взрываются наконец в
неуправляемом чувстве - и бросаются бить удачливых соседок.
И еще по Кривощековскому лагпункту быстро разбегаются венерические
болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и всё
туда же, через тот же порог тянутся властители и просители. И только
осмотрительные, вроде баяниста К., имеющего связи в санчасти, всякий раз для
себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтобы не
ошибиться.
А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость, там она и вовсе
нарасхват и наразрыв. Там не попадайся женщина на трассе - хоть конвоиру,
хоть вольному, хоть заключенному. На Колыме родилось выражение [трамвай] для
группового изнасилования. К. О. рассказывает, как шофер проиграл в карты их
Целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген - и, свернув с
дороги, завез на ночь расконвоированным, стройрабочим.
А [работа?] Еще в смешанной бригаде какая-то есть женщине потачка,
какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская - тут уж пощады не
будет, тут давай [кубики!] А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут
женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и
вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот "29-я точка" КарЛага -
сколько ж в этой [точке] женщин? Не много не мало - шесть тысяч! *(3) Кем
же работать там женщине? Елена О. работает грузчиком - она таскает мешки по
80 и даже по 100 килограммов! - правда наваливать на плечи ей помогают, да
и в молодости она была гимнасткой. (Все свои 10 лет проработала грузчиком и
Елена Прокофьевна Чеботарева.)
На женских лагпунктах устанавливается не-женски жестокий общий нрав:
вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживешь. (Но, замечает
бесконвойный инженер Пустовер-Прохоров, взятые с такой женской колонны в
прислугу или на приличную работу женщины тут же оказываются тихими и
трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях, в
1930-е годы. Вот картинка: в жаркий день триста женщин просили конвой
разрешить им искупаться в обводнённом овраге. Конвой не разрешил. Тогда
женщины с единодушием все разделись донага и легли загорать - возле самой
магистрали, на виду у проходящих поездов. Пока шли поезда местные,
советские, то была не беда, но ожидался международный экспресс, и в нем
иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную
машину и спугнули их брандсбойтом.)
Вот [женская] работа в Кривощекове. На кирпичном заводе, окончив
разрабатывать участок карьера, обрушивают туда перекрытие (его перед
разработкой стелят по поверхности земли). Теперь надо поднять метров на
10-12 тяжелые сырые бревна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет:
механизировать. Конечно. Женская бригада набрасывает два каната (их
серединами) на два конца бревна, и двумя рядами бурлаков (равняясь, чтобы не
вывалить бревно и не начинать с начала) вытягивают одну сторону каждого
каната и так - бревно. А потом они вдвадцатером берут одно такое бревно на
плечи и под командный мат отъявленной своей бригадирши несут бревнище на
новое место и сваливают там. Вы скажете - трактор? Да помилуйте, откуда
трактор, если это 1948 год? Вы скажете - кран? А вы забыли Вышинского -
"труд-чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев"?
Если кран - так как же с чародеем? Если кран - эти женщины так и погрязнут
в ничтожестве!
Тело истощается на такую работу, и всё, что в женщине есть женское,
постоянное или в месяц раз, перестает быть. Если она дотянет до ближней
комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которую
облизывались придурки в банном коридоре: она стала безвозрастна; плечи её
выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками; избыточные
складки кожи морщатся на плоских ягодицах, над коленями так мало плоти, что
образовался просвет, куда овечья голова пройдет и даже футбольный мяч; голос
погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пеллагры. (А за несколько
месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важного
Труд-[чародей!]..
Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве
выпадало не всем одинаково безнадежно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и
вижу девятнадцатилетнюю Напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю
деревенскую щеку. В лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на
башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и
на стрелу, оттуда всему строительству кричала "хо-го-о-о!", из кабины
перекрикивалась с вольным прорабом, с десятниками, телефона у нее не было.
Всё ей было как будто забавно, весело, лагерь не в лагерь, хоть в комсомол
вступай. С каким-то не лагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда
страшен (ну, кроме [кума]) - её прораб не дал бы в обиду. Одного только не
знаю - как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу - вот бескорыстно
ли её сюда приняли. Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы
так и пышели из нее, а завоеванное положение позволяло ей любить не по
нужде, а по влечению сердца.
Так же описывет свое состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала
в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. "С песней я
бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы". Если нет другой молодости,
кроме лагерной - значит, надо веселиться здесь, а где же? Потом её привезли
в тундру под Норильск, так и он ей "показался каким-то сказочным городом,
приснившимся в детстве". Отбыв срок, она осталась там вольнонаемной. "Помню,
я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение, я шла,
размахивая руками, борясь с пургой, пела "Легко на сердце от песни веселой",
глядела на переливающиеся занавеси Северного сияния, бросалась на снег и
смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять
лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой.. Хотелось
любить! Хотелось что-нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на
Ну, да это многим хотелось.
Освободить нас ото зла Сачковой всё-таки не удалось: лагеря стоят. Но
самой ей повезло: ведь не пяти лет, а пяти недель довольно, чтоб уничтожить
и женщину и человека.
Вот эти два случая у меня только и стоят против тысяч безрадостных или
бессовестных.
А конечно, где ж как не в лагере пережить тебе первую любовь, если
посадили тебя (по политической статье!) [пятнадцати лет], восьмиклассницей,
как Нину Перегуд? Как не полюбить джазиста-красавца Василия Козьмина,
которым еще недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он
казался тебе недоступен? И Нина пишет стих "Ветка белой сирени", а он кладет
на музыку и поет ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен).
Девочки из кривощековского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса
Признак, что - в лагерном браке, но может быть - и в любви?
Законодательство внешнее (вне ГУЛага) как будто способствовало лагерной
любви. Всесоюзный Указ от 8.7.44 об укреплении брачных уз сопровождался
негласным Постановлением СНК и инструкцией НКЮ от 27.11.44, где говорилось,
что суд обязан по первому желанию вольного советского человека
беспрекословно расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении (или в
сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, что освободить от платы сумм при
выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно не
обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым
гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых
мужей и жен, а заключённые - забывать поглуше о супружестве. Уже не только
глупо и несоциалистично, но становилось противозаконно женщине тосковать по
отлученному мужу, если он остался на воле. У Зои Якушевой, севшей за мужа
как ЧС, получилось так: года через три мужа освободили как важного
специалиста, и он не поставил непременным условием освобождение жены. Все
свои [восемь] она и оттянула за него...)
Забывать о супружестве, да, но инструкции внутри ГУЛага осуждали и
любовный разгул как диверсию против производственного плана. Ведь,
разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг
перед государством и Архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно - на
сырой земле, на дровяной щепе, на щебенке, на шлаке, на железных стружках -
а план срывался! а пятилетка топталась на месте! а премии гулаговским
начальникам не шли! Кроме того некоторые из зэчек таили гнусный замысел
забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов,
урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого пятилетнего или
трехлетнего, и эти месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛага требовали:
уличенных в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них
отсылать этапом. (Это, конечно, ничуть не напоминало Салтычих, отсылавших
девок в дальние деревни.)
Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда
гражданин надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить с
фонарем и ловить этих голоногих наглых баб в койках мужского барака и
мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собственных вожделениях
(ведь и гражданин надзиратель тоже не каменный), он должен был еще трудиться
отводить виновную в карцер или целую ночь увещевать её, объясняя, чем её
поведение дурно, а потом и писать докладные (что" при отсутствии высшего
образования даже мучительно).
Ограбленные во всем, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь -
в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть
интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом,
голодом, забытостью и зверством, - к чему ж еще могли повернуться
лагерницы, если не к любви? Благословением божьим возникала любовь почти уже
и не плотская потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и
мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой [заначки]
(уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь
женщины, еще глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от
бесплотности она становилась острее, чем на воле! Уже пожилые женщины ночами
не спали от случайной улыбки, от мимолетного внимания. И так резко выделялся
свет любви на грязно-мрачном лагерном существовании!
"Заговор счастья" видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской
артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла,
что никто никогда не любил её так - ни муж-кинорежиссер, ни все бывшие
поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ.
Да еще этот риск - почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое
свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности,
где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен
жертвами - ведь героическая любовь! (Аня Лехтонен в Ортау разлюбила своего
возлюбленного за те двадцать минут, что стрелок вел их в карцер, а тот
униженно умолял отпустить.) Кто-то шел содержанками придурков без любви -
чтобы спастись, а кто-то шел на [общие] и гиб - за любовь.
И совсем немолодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя
надзирателей в тупик: на воле на такую женщину никак не подумал бы! А
женщины эти не страсти уже искали, а насытить свою потребность о ком-то
позаботиться, кого-то согреть, от себя урезать, а его подкормить; обстирать
его и обштопать. Их общая миска, из которой они питались, была их священным
обручальным кольцом. "Мне не спать с ним надо, а в звериной нашей жизни, как
в бараке целый день за пайки и за тряпки ругаемся, про себя думаешь: сегодня
ему рубашку починить, да картошку сварим", - объясняла одна доктору Зубову.
Но мужик-то временами хочет и большего, приходится уступать, а надзор как
раз и ловит... Так в Унжлаге больничную прачку тетю Полю, рано овдовевшую,
потом всю жизнь одинокую, прислуживавшую в церкви, нашли ночью с мужчиной
уже в конце её лагерного срока. "Как же это, тетя Поля? - ахали врачи. - А
мы-то на тебя надеялись! А теперь тебя на [общие] пошлют." - "Да уж
виновата, - сокрушенно кивала старушка. - По-евангельски блудница, а по
лагерному....."
Но и в наказании уличенных любовников, как и во всем строе ГУЛага, не
было беспристрастия. Если один из любовников был придурок, близкий
начальству или очень нужный по работе, то на связь его могли и годами
смотреть сквозь пальцы. (Когда на ОЛП женской больницы Унжлага приезжал
бесконвойный электромонтер, в услугах которого были заинтересованы все
вольняшки, главврач, вольная, вызывала сестру-хозяйку, зэчку, и
распоряжалась: "Создайте условия Мусе Бутенко" - медсестре, из-за которой
монтер и приезжал.) Если же это были зэки незначительные или опальные, они
наказывались быстро и жестоко.
В Монголии, в Гулжедээсовском лагере (наши зэки строили там дорогу в
1947-50 годах), двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали
к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом,
ПРОГНАЛ ИХ ПО СТЕПИ. *(4) Такого и Салтычихи не делали. Но делали Соловки.
Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не
могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлученные они
поддерживали переписку, а после освобождения соединялись. Известен такой
случай: один врач, Б. Я. Ш., доцент провинциального мединститута, в лагере
потерял счет своим связям - не пропущена была ни одна медсестра и сверх
того. Но вот в этом ряду попалась З*, и ряд остановился. З* не прервала
беременности, родила. Б. Ш. вскоре освободился и, не имея ограничений, мог
ехать в свой город. Но он остался вольнонаемным при лагере, чтобы быть
близко к З* и к ребенку. Потерявшая терпение его жена приехала за ним сама
сюда. Тогда он спрятался от нее в [зону] (! где жена не могла его достичь),
жил там с З*, а жене всячески передавал, что он развелся с ней, чтоб она
Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов.
Архипелаг настолько вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину
разъединяет то, что должно крепче всего их соединить: рождение ребенка. За
месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная
больница с родильным отделением и где резвые голосенки кричат, что не хотят
быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый
ближний лагпункт [мамок].
Тут надо прерваться! Тут нельзя не прерваться! Сколько самонасмешки в
этом слове! "Мы - не настоящие!.." Язык зэков очень любит и упорно проводит
эти вставки уничижительных суффиксов: не мать, а [мамка]; не больница, а
[больничка]; не свидание, а свиданКа; не помилование, а помиловКа; не
вольный, а [вольняшка]; не жениться, а [поджениться] - та же насмешка, хоть
и не в суффиксе. И даже [четвертная] (двадцатипятилетний срок) снижается до
[четвертака], то есть от двадцати пяти рублей до двадцати пяти копеек!
Этим настойчивым уклоном языка зэки показывают и что на Архипелаге всё не
настоящее, всё поддельное, всё последнего сорта. И что сами они не дорожат
тем, чем дорожат обычные люди, они отдают себе отчет и в поддельности
лечения, которое им дают, и в поддельности просьб о помиловании, которые они
вынуждено и без веры пишут. И снижением до двадцати пяти копеек зэк хочет
показать свое превосходство даже над почти пожизненным сроком!
Так вот на своем лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под
конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребенок в это время
находится уже не в больнице, а в "детгородке" или "доме малютки", как это в
разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают
свиданий с ними - или в виде исключения "при образцовой работе и
дисциплине" (ну, да смысл в том, что не держать же их из-за этого под боком,
матерей надо отправлять работать туда, куда требует производство). Но и на
старый лагпункт к своему лагерному "мужу" женщина тоже уже не вернется чаще
всего. И отец вообще не увидит своего ребенка, пока он в лагере. Дети же в
детгородке после отъема от груди еще содержатся с год (их питают по нормам
вольных детей и поэтому лагерный медперсонал и хозобслуга кормится вокруг
них). Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию,
умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом. Так сын туземки
и туземца пока уходит с Архипелага, не без надежды вернуться сюда
[малолеткой].
Кто следил за этим, говорят, что нечасто мать после освобождения берет
своего ребенка из детдома (блатнячки - никогда) - так прокляты многие из
этих детей, захватившие первым вздохом маленьких легких заразного воздуха
Архипелага. Другие - берут или даже еще раньше присылают за ним каких-то
темных (может быть религиозных) бабушек. В ущерб казенному воспитанию и
невозвратно потеряв деньги на родильный дом, на отпуск матери и на дом
малютки, ГУЛаг отпускает этих детей.
Все те годы, предвоенные и военные, когда беременность разлучала лагерных
супругов, нарушала этот трудно найденный, усильно скрываемый, отовсюду
угрожаемый и без того неустойчивый союз, - женщины старались не иметь
детей. И опять-таки Архипелаг не был похож, на волю: в годы, когда на воле
аборты были запрещены, преследовались судом, очень не легко давались
женщинам, - здесь лагерное начальство снисходительно смотрело на аборты, то
и дело совершаемые в больнице: ведь так было лучше для лагеря.
И без того всякой женщине трудные, еще запутаннее для лагерницы эти
исходы: рожать или не рожать? и что" потом с ребенком? Если допустила
изменчивая лагерная судьба забеременеть от любимого, то как же можно
решиться на аборт? А родить? - это верная разлука сейчас, а он по твоему
отъезду не сойдется ли в том же лагпункте с другой? И какой еще будет
ребенок? (Из-за дистрофии родителей он часто неполноценен). И когда ты
перестанешь кормить, и тебя отошлют, а (еще много лет сидеть) - то доглядят
ли его, не погубят? И можно ли взять ребенка в свою семью (для некоторых
исключено)? А если не брать - то всю жизнь потом мучиться (для некоторых -
нисколько).
Шли уверенно на материнство те, кто рассчитывали после освобождения
соединиться с отцом своего ребенка. (И расчеты эти иногда оправдывались. Вот
А. Глебов со своей лагерной женой спустя двадцать лет: с ними дочь,
рожденная еще в УнжЛаге, теперь ей 19 лет, какая славная девочка, и другая,
рожденная уже на воле десятью годами позже, когда родители [отбухали] свои
сроки.) Шли и те, кто само это материнство рвались испытать - в лагере, раз
нет другой жизни. Ведь это живое существо, сосущее твою грудь - оно не
поддельно и не второстепенно. (Харбинка Ляля рожала второго ребенка только
для того, чтобы вернуться в детгородок и посмотреть на своего первого! И еще
потом третьего рожала, чтобы вернуться посмотреть на первых двух. Отбыв
безвозвратно униженные, лагерные женщины через материнство утверждались в
своем достоинстве, они на короткое время как бы равнялись вольным женщинам.
Или: "Пусть я заключенная, но ребенок мой вольный!" - и ревниво требовали
для ребенка содержания и ухода как для подлинновольного. Третьи, обычно из
прожженных лагерниц и из приблатненных, смотрели на материнство как на год
[кантовки], иногда - как путь к [досрочке]. Своего ребенка они и своим не
считали, не хотели его и видеть, не узнавали даже - жив ли он.
Матери из [захи"днии] (западных украинок) да иногда и из русских
происхождением попроще норовили непременно "крестить" своих детей (это уже
послевоенные годы). Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке
(надзор бы не пропустил такой контрреволюции), либо заказывался за хлеб
лагерному умельцу. Доставали и ленточку для креста, шили и парадную
распашонку, чепчик. Экономился сахар из пайки, пекся из чего-то крохотный
пирог - и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина,
которая прочитывала молитву (уж там какую-нибудь), ребенка окунали в теплую
воду, крестили и сияющая мать приглашала к столу.
Иногда для мамок с грудными детьми (только конечно не для Пятьдесят
Восьмой) выходили частные амнистии или просто распоряжения о досрочном
освобождении. Чаще всего под эти распоряжения попадали мелкие уголовницы и
приблатнённые, которые на эти-то льготы отчасти и рассчитывали. И как только
такие мамки получали в ближайшем райцентре паспорт и железнодорожный билет,
Своего ребенка, уже не ставшего нужным, они частенько оставляли на
вокзальной скамье, на первом крыльце. (Да надо и представить, что не всех
ждало жильё, сочувственная встреча в милиции, прописка, работа, а на
следующее утро уже ведь не ожидалось готовой лагерной пайки. Без ребенка
было легче начинать жить.)
В 1954 году на ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко от
группы зэков, ехавших из лагеря и освобожденных по каким-то частным
распоряжениям. Их было десятка три, они занимали целый угол зала, вели себя
шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛага, знающие, почем
жизнь, и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о
других, вскочила, размахнула своего ребенка за ноги и слышно стукнула его
головой о каменный пол. Весь [вольный] зал ахнул, застонал: мать! как может
Они не понимали же, что была то не мать, а [мамка].
Всё сказанное до сих пор относится к [совместным] лагерям - к таким,
какими они были от первых лет революции и до конца второй мировой войны. В
те годы был в РСФСР только один, кажется, Новинский домзак (переделанный из
бывшей московской женской тюрьмы), где содержались женщины без мужчин. Опыт
этот не получил распространения и сам не длился слишком долго.
Но благополучно восстав из-под развалин войны, которую он едва не
загубил. Учитель и Зиждитель задумался о благе своих поданных. Его мысли
освободились для упорядочения их жизни, и много он изобрел тогда полезного,
много нравственного, а среди этого - разделение пола мужеского и пола
женского - сперва в школах и лагерях (а там дальше, может, хотел добраться
и до всей воли, в Китае был опыт и шире).
И в 1946 году на Архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное
отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином
острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка - колючую
проволочку. *(5)
Но как и другие многие научно-предсказанные и научно-продуманные
действия, эта мера имела последствия неожиданные и даже противоположные.
С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве.
Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами,
кубовщицами, каптерщицами, счетоводами на смешанных лагпунктах, теперь все
эти места они должны были освободить, в женских же лагпунктах таких мест
было гораздо меньше. И женщин погнали на "общие", погнали в цельно-женских
бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с "общих" хотя бы на время стало
спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить её
от любой мимолетной встречи, любого касания. Беременность не грозила теперь
разлукой с супругом, как раньше - все разлуки уже были ниспосланы одним
Мудрым Указом.
И вот число детей, поступающих в дом малютки, за год возросло [вдвое!]
(УнжЛаг, 1948: 300 вместо 150), хотя заключённых женщин за это время не
прибавилось.
"Как же девочку назовешь?" - "Олимпиадой. Я на олимпиаде
самодеятельности забеременела". Еще по инерции оставались эти формы
культработы - олимпиады, приезды мужской культбригады на женский лагпункт,
совместные слеты ударников. Еще сохранились и общие больницы - тоже дом
свиданий теперь. Говорят, в Соликамском лагере в 1946 году разделительная
проволока была на однорядных столбах, редкими нитями (и, конечно, не имела
огневого охранения). Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с
двух сторон, женщины становились так, как моют полы, и мужчины овладевали
ими, не переступая запретной черты.
Ведь чего-то же стоит и бессмертный Эрос! Не один же разумный расчет
избавиться от общих. Чувствовали зэки, что кладется черта надолго, и будет
она каменеть, как все в ГУЛаге.
Если до разделения было дружное сожительство, лагерный брак и даже
любовь, - то теперь стал откровенный блуд.
Разумеется, не дремало и начальство, и на ходу исправляло свое научное
предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали предзонники с двух
сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором
двухметровой высоты - и тоже с предзонниками.
В Кенгире не помогла и такая стена: женихи перепрыгивали. Тогда по
воскресеньям (нельзя же на это тратить производственное время! да и
естественно, что устройством своего быта люди занимаются в выходные дни)
стали назначать с обеих сторон стены воскресники - и заставили докладывать
стену до четырехметровой высоты. И вот усмешка: на эти воскресники
действительно шли с радостью! - перед прощанием хоть познакомиться с кем-то
по ту сторону стены, поговорить, условиться о переписке!
Потом в Кенгире достроили разделительную стену до пяти метров, и уже
сверх пяти метров потянули колючую проволоку. Потом еще пустили провод
высокого напряжения (до чего же силен амур проклятый!). Наконец, поставили и
охранные вышки по краям. У этой кенгирской стены была особая судьба в
истории всего Архипелага (см. Часть V, гл. 12). Но и в других ОсобЛагерях
(Спасск) строили подобное.
Надо представить себе эту разумную методичность работодателей, которые
считают вполне естественным разделение проволокой рабов и рабынь, но
изумились бы, если б им предложили сделать то же со своей семьей.
Стены росли - и Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или
слишком высоко - в платоническую переписку, или слишком низко - в
однополую любовь.
Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных
местах. На пакетиках писались и адреса условные: так, чтобы надзиратель,
перехватив, не мог бы понять - от кого кому. (За переписку теперь
полагалась лагерная тюрьма.)
Галя Бенедиктова вспоминает, что иногда и знакомились-то заочно;
переписывались, друг друга не увидав; и расставались, не увидав. (Кто вел
такую переписку, знает и её отчаянную сладость, и безнадежность и слепоту.)
В том же Кенгире литовки выходили [замуж] через стену за земляков, никогда
прежде их не знав: ксёндз (в таком же бушлате, конечно, из заключённых)
свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед
небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеной - а для католичек
соединение было необратимо и священно - мне слышится хор ангелов. Это -
как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века
расчета и подпрыгивающего джаза.
Кенгирские браки имели тоже исход необычный. Небеса прислушались к
молитвам и вмешались (ч. V, гл. 12).
Сами женщины (и врачи, лечившие их в разделенных зонах) подтверждают, что
они переносили разделение хуже мужчин. Они были особенно возбудимы и нервны.
Быстро развивалась лесбийская любовь. Нежные и юные ходили пожелтевшие, с
подглазными темными кругами. Женщины более грубого устройства становились
"мужьями". Как надзор ни разгонял такие пары, они оказывались снова вместе
на койке. Отсылали с лагпункта теперь кого-то из этих "супругов". Вспыхивали
бурные драмы с самобросанием на колючую проволоку под выстрелы часовых.
В карагандинском отделении СтепЛага, где собраны были женщины только из
Пятьдесят Восьмой, они многие, рассказывает Н. В., ожидали вызова к [оперу]
с замиранием - не с замиранием страха или ненависти к подлому политическому
допросу, а с замиранием перед этим мужчиной, который запрет её одну в
комнате с собою на замок.
Отделенные женские лагеря несли всю ту же тяжесть общих работ. Правда, в
1951 году женский лесоповал был формально запрещен (вряд ли потому, что
началась вторая половина XX века). Но например в УнжЛаге мужские лагпункты
никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их - как
заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему
живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал и в одно общее
конвойное оцепление с мужчинами, только лыжня разделяла их. Всё
заготовленное здесь, должно было потом записываться как выработка мужского
лагпункта, но норма требовалась и от мужчин и от женщин. Любе Березиной,
"мастеру леса", так и говорил начальник с двумя просветами в погонах:
"Выполнишь норму своими бабами - будет Беленький с тобой в кабинке!" Но
теперь и мужики-работяги, кто покрепче, а особенно производственные
придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам (у тех тоже зарплата не
разгуляешься) и часа на полтора (до смены купленного постового) прорывались
в женское оцепление.
В заснеженном морозном лесу за эти полтора часа предстояло: выбрать,
познакомиться (если до тех пор не переписывался), найти место и совершить.
Но зачем это всё вспоминать? Зачем бередить раны тех, кто жил в это время
в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и
заграницу?
Зачем вспоминать об этом, если это и сегодня так? Ведь писать можно
только о том, что "не повторится"...
1. Сборник "От тюрем...", стр. 358
2. Я представил её под именем Грани Зыбиной, но в пьесе придал ей лучшую
судьбу, чем у неё была.
3. Это - к вопросу о [[численности]] зэков на Архипелаге. Кто знал эту
29-ю точку? Последняя ли она в КарЛаге? И по сколько людей на остальных
[[точках?]] Умножай, кто досужен! А кто знает какой-нибудь 5-й стройучасток
Рыбинского гидроузла? А между тем там больше ста бараков, и при самом
льготном наполнении, по полтысячи на барак, - тут тоже тысяченок шесть
найдется, Лощилин же вспоминает - было больше десяти тысяч.
4. Кто отыщет теперь его фамилию? И его самого? Да скажи ему - он
поразится: он-то в чем виноват? Ему сказали так! А пусть не ходят к мужикам,
5. Уже многие начинания Корифея не признаны столь совершенными и даже
отменены, - а разделение полов на Архипелаге закостенело и по сей день. Ибо
здесь основание - глубоко нравственное.
«Skrekkens hus» - «Дом ужаса» - так называли его в городе. С января 1942 года в здании городского архива находилась штаб-квартира гестапо в южной Норвегии. Сюда привозили арестованных, здесь были оборудованы пыточные камеры, отсюда люди отправлялись в концлагеря и на расстрел.
Сейчас в подвале здания, где были расположены карцеры и где пытали заключенных, открыт музей, рассказывающий о том, что происходило в годы войны в здании государственного архива.
Планировка подвальных коридоров оставлена без изменений. Появились только новые фонари и двери. В главном коридоре устроена основная экспозиция с архивными материалами, фотографиями, плакатами.

Так подвешенного арестованного избивали цепью.

Так пытали с помощью электрических печек. При особенном усердии палачей у человека могли загореться волосы на голове.

Про пытку водой я уже писал ранее. Применялась она и в Архиве.

В этом устройстве зажимали пальцы, выдирали ногти. Машинка аутентичная - после освобождения города от немцев всё оборудование пыточных камер осталось на своих местах и было сохранено.

Рядом - другие устройства для ведения допроса с "пристрастием".

В нескольких подвальных помещениях устроены реконструкции – как это выглядело тогда, в этом самом месте. Это камера, где содержались особо опасные арестованные – попавшие в лапы гестаповцев члены норвежского Сопротивления.

В соседнем помещении располагалась пыточная камера. Здесь воспроизведена реальная сцена пытки семейной пары подпольщиков, взятых гестаповцами в 1943 г. во время сеанса связи с разведцентром в Лондоне. Двое гестаповцев пытают жену на глазах мужа, прикованного цепью к стене. В углу, на железной балке, подвешен еще один участник провалившейся подпольной группы. Говорят, перед допросами гестаповцы накачивались спиртным и наркотиками.

В камере оставлено все, как было тогда, в 43-м. Если перевернуть ту розовую табуретку, стоящую у ног женщины, можно увидеть клеймо гестапо Кристиансанда.

Это реконструкция допроса - гестаповский провокатор (слева) предъявляет арестованному радисту подпольной группы (он сидит справа, в наручниках) его радиостанцию в чемодане. В центре сидит шеф кристиансандского гестапо, гауптштурмфюрер СС Рудольф Кернер – о нем я еще расскажу.

В этой витрине вещи и документы тех норвежских патриотов, которых высылали в концлагерь Грини под Осло – главный пересылочный пункт в Норвегии, откуда заключенных отправляли в другие концлагеря на территории Европы.

Система обозначения разных групп заключенных в концлагере Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Еврей, политический, цыган, испанский республиканец, опасный уголовник, уголовник, военный преступник, свидетель Иеговы, гомосексуалист. На значке норвежского политического заключенного писали букву N.

В музей водят школьные экскурсии. Я наткнулся на одну такую – несколько местных подростков ходили по коридорам вместе с Туре Робстадом, волонтером из местных жителей, переживших войну. Говорят, что в год музей в Архиве посещают около 10 000 школьников.

Туре рассказывает ребятам про Освенцим. Двое мальчишек из группы были там совсем недавно на экскурсии.

Советский военнопленный в концлагере. В руке у него – самодельная деревянная птица.

В отдельной витрине вещи, сделанные руками русских военнопленных в норвежских концлагерях. Эти поделки русские обменивали на еду у местных жителей. У нашей соседки в Кристиансанде осталась целая коллекция таких деревянных птиц – по дороге в школу она часто встречала группы наших пленных, идущих на работу под конвоем, и отдавала им свой завтрак в обмен на эти вырезанные из дерева игрушки.

Реконструкция партизанской радиостанции. Партизаны в южной Норвегии передавали в Лондон сведения о передвижениях немецких войск, дислокации военной техники и кораблей. На севере норвежцы снабжали разведданными советский Северный морской флот.

«Германия – нация творцов».

Норвежским патриотам приходилось работать в условиях сильнейшего давления на местное население геббельсовской пропаганды. Немцы поставили перед собой задачу по скорейшей нацификации страны. Правительство Квислинга предпринимало для этого усилия в сфере образования, культуры, спорта. Нацистская партия Квислинга (Nasjonal Samling) еще до начала войны внушала норвежцам, что основной угрозой для их безопасности является военная мощь Советского Союза. Надо отметить, что запугиванию норвежцев насчет советской агрессии на Севере немало поспособствовала финская кампания 1940 года. С приходом к власти Квислинг только усилил свою пропаганду с помощью ведомства Геббельса. Нацисты в Норвегии убеждали население, что только сильная Германия сможет защитить норвежцев от большевиков.

Несколько плакатов, распространяемых нацистами в Норвегии. «Norges nye nabo» – «Новый норвежский сосед», 1940 г. Обратите внимание на модный и ныне прием "перевертывания" латинских букв для имитации кириллицы.

«Вы хотите, чтобы было так?»

В пропаганде "новой Норвегии" всячески подчеркивалось двух родство "нордических" народов, их сплочение в борьбе против английского империализма и "диких большевистских орд". Норвежские патриоты в ответ использовали в своей борьбе символ короля Хокона и его образ. Девиз короля «Alt for Norge» всячески высмеивался нацистами, которые внушали норвежцам, что военные трудности – временное явление и Видкун Квислинг – новый лидер нации.

Две стены в мрачных коридорах музея отданы материалам уголовного дела, по которому судили семерых главных гестаповцев в Кристиансанде. В норвежской судебной практике таких дел еще никогда не было – норвежцы судили немцев, граждан другого государства, обвиненных в преступлениях на территории Норвегии. В процессе участвовали триста свидетелей, около десятка адвокатов, норвежская и зарубежная пресса. Гестаповцев судили за пытки и издевательства над арестованными, отдельно шел эпизод о казни без суда и следствия 30 русских и 1 польского военнопленного. 16 июня 1947 г. все были были приговорены к смертной казни, которая впервые и временно была включена в УК Норвегии сразу после окончания войны.

Рудольф Кернер – шеф кристиансандского гестапо. Бывший преподаватель сапожного дела. Отъявленный садист, в Германии имел уголовное прошлое. Отправил в концлагеря несколько сотен членов норвежского Сопротивления, виновен в гибели раскрытой гестаповцами организации советских военнопленных в одном из концлагерей на юге Норвегии. Был, как и остальные его подельники, приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена пожизненным заключением. Вышел на свободу в 1953 году по амнистии, объявленной норвежским правительством. Уехал в Германию, где его следы потерялись.

Рядом со зданием Архива стоит скромный памятник погибшим от рук гестаповцев норвежским патриотам. На местном кладбище, наподалеку от этого места, покоится прах советских военнопленных и английских летчиков, сбитых немцами в небе над Кристиансандом. Каждый год 8-го мая на флагштоках рядом с могилами поднимаются флаги СССР, Великобритании и Норвегии.
В 1997 году здание Архива, из которого государственный архив переехал в другое место, было решено продать в частные руки. Местные ветераны, общественные организации выступили резко против, организовались в специальный комитет и добились того, чтобы в 1998 году владелец здания государственный концерн Statsbygg передал историческое здание ветеранскому комитету. Теперь здесь, вместе с тем музеем, про который я вам рассказал, расположены офисы норвежских и международных гуманитарных организаций – Красного Креста, Amnesty International, ООН.
Дорога из аэропорта Берлин-Тегель до Равенсбрюка занимает немногим более часа. В феврале 2006 года, когда я впервые ехала сюда, был сильный снегопад и на берлинской кольцевой автодороге разбился грузовик, поэтому дорога заняла больше времени.
Генрих Гиммлер часто выезжал в Равенсбрюк, даже в столь свирепую погоду. У главы СС в окрестностях жили друзья, и если он проезжал мимо, то заглядывал на инспекцию в лагерь. Он редко покидал его, не раздав новых приказов. Однажды он приказал класть больше корнеплодов в суп пленников. А в другой раз возмутился, что истребление заключенных проходит слишком медленно.
Равенсбрюк был единственным нацистским концлагерем для женщин. Лагерь получил название от маленькой деревушки в окрестностях города Фюрстенберг и расположен примерно в 80 км к северу от Берлина по дороге, ведущей к Балтийскому морю. Женщины, попадающие в лагерь ночью, иногда думали, что находятся рядом с морем, потому что ощущали запах соли в воздухе и песок под ногами. Но когда рассветало, они понимали, что лагерь находится на берегу озера и окружен лесом. Гиммлеру нравилось располагать лагеря в скрытых от глаз местах с красивой природой. Вид на лагерь сокрыт и сегодня; происходившие здесь чудовищные преступления и мужество его жертв до сих пор по большей части неизвестны.
Равенсбрюк был создан в мае 1939 года, всего лишь за четыре месяца до начала войны, и был освобожден солдатами Советской Армии шесть лет спустя - этот лагерь был одним из последних, до которого добрались Союзники. В первый год существования в нем содержалось менее 2000 заключенных, почти все из них были немцами. Многие были арестованы, потому что выступали против Гитлера - например, коммунисты, или свидетели Иеговы, называвшие Гитлера Антихристом. Другие были заключены, потому что нацисты считали их низшими существами, чье нахождение в обществе было нежелательным: проститутки, преступники, нищие, цыгане. Позже в лагере стали содержать тысячи женщин из оккупированных нацистами стран, многие из которых принимали участие в Сопротивлении. Сюда же привозили и детей. Небольшую долю заключенных - около 10 процентов - составляли евреи, но официально лагерь не был предназначен только для них.
Самое большое количество заключенных Равенсбрюка составляло 45 000 женщин; за более чем шесть лет существования лагеря через его ворота прошли около 130 000 женщин, которых били, морили голодом, заставляли работать до смерти, травили, пытали, умерщвляли в газовых камерах. Примерные подсчеты количества жертв варьируются от 30 000 до 90 000; реальное число, скорее всего, находится между этих цифр - уцелело слишком мало документов СС, чтобы говорить наверняка. Массовое уничтожение улик в Равенсбрюке - одна из причин, по которым о лагере известно так мало. В последние дни его существования дела всех заключенных были сожжены в крематории или на костре, вместе с телами. Пепел был сброшен в озеро.
Впервые я узнала о Равенсбрюке, когда писала свою более раннюю книгу о Вере Аткинс, офицере разведки Управления специальных операций во время Второй мировой войны. Сразу после ее окончания Вера приступила к самостоятельным поискам женщин из УСО (британское Управление специальных операций - прим. Newoчём ), которые парашютировались на оккупированную территорию Франции для помощи Сопротивлению, многие из которых числились пропавшими без вести. Вера пошла по их следу и обнаружила, что некоторые из них были захвачены в плен и помещены в концентрационные лагеря.
Я пыталась воссоздать ее поиски и начала с личных записей, которые хранила в коричневых картонных коробках ее сводная сестра Феба Аткинс в их доме в Корнуолле. Слово «Равенсбрюк» было написано на одной из этих коробок. Внутри были рукописные интервью с выжившими и подозреваемыми членами СС - одни из первых полученных о лагере свидетельств. Я пролистала бумаги. «Нас заставили раздеться и обрили налысо», - рассказала Вере одна из женщин. Там был «столб удушливого синего дыма».
 Вера Аткинс. Фото: Wikimedia Commons
Вера Аткинс. Фото: Wikimedia Commons
Одна из выживших рассказывала о лагерном госпитале, где «бактерии, вызывающие сифилис, вводились в спинной мозг». Другая описывала прибытие женщин в лагерь после «марша смерти» из Освенцима, по снегу. Один из агентов УСО, заключенный в лагере Дахау, писал, что слышал о женщинах из Равенсбрюка, которых принуждали работать в борделе Дахау.
Несколько человек упомянули о молодой женщине-охраннике по имени Бинц с «короткими светлыми волосами». Другая надзирательница некогда была няней в Уимблдоне. Среди заключенных, по информации британского следователя, находились «сливки женского общества Европы», включая племянницу Шарля де Голля, бывшую чемпионку Британии по гольфу и множество польских графинь.
Я начала просматривать даты рождения и адреса, на случай если кто-то из выживших - или даже надзирателей - жив до сих пор. Кто-то дал Вере адрес госпожи Шатне, «знавшей о стерилизации детей в Блоке 11». Доктор Луиза ле Пор составила детальный отчет, в котором было указано, что лагерь построен на территории, принадлежащей Гиммлеру, и его личная резиденция находилась неподалеку. Ле Пор жила по адресу Мериньяк, Департамент Жиронда, однако, судя по дате рождения, к тому времени уже была мертва. Женщина с острова Гернси, Джулия Барри, жила в местечке Неттлбед, в Оксфордшире. Русская выжившая, предположительно, работала «в пункте матери и ребёнка, на Ленинградском вокзале».
На задней стенке коробки я обнаружила рукописный список заключенных, вывезенный полячкой, делавшей в лагере заметки, а также рисовавшей наброски и карты. «Поляки были лучше осведомлены», - говорится в заметке. Женщина, составившая список, скорее всего, уже давно была мертва, однако некоторые из адресов находились в Лондоне и те, кто тогда спаслись, были ещё живы.
Я взяла эти наброски с собой во время моей первой поездки в Равенсбрюк, в надежде, что они помогут сориентироваться, когда я туда попаду. Однако из-за снежных завалов на дороге я сомневалась, попаду ли туда вообще.
Многие пытались добраться до Равенсбрюка, но не смогли. Представители Красного Креста пытались попасть к лагерю в хаосе последних дней войны, однако вынуждены были повернуть назад, настолько огромен был поток беженцев, двигавшихся им навстречу. Через несколько месяцев после окончания войны, когда Вера Аткинс выбрала эту дорогу, чтобы начать свое расследование, ее остановили на русском КПП; лагерь находился в русской зоне оккупации и доступ гражданам стран-союзников был закрыт. К этому времени экспедиция Веры стала частью большого британского расследования в лагере, результатом которого стали первые судебные процессы по военным преступлениям Равенсбрюка, начавшиеся в Гамбурге в 1946 году.
В 1950-х, когда началась Холодная война, Равенсбрюк скрылся за Железным занавесом, разделившим выживших с востока и с запада и расколовшим историю лагеря надвое.
На советских территориях это место стало мемориалом лагерным героиням-коммунисткам, и все улицы и школы в Восточной Германии были названы их именами.
Между тем, на Западе Равенсбрюк буквально исчез из виду. Бывшие заключенные, историки и журналисты не могли попасть даже близко к этому месту. В их странах бывшие заключенные боролись за то, чтобы их истории опубликовали, но оказалось слишком сложно добыть доказательства. Расшифровки гамбургского трибунала были скрыты под грифом «секретно» тридцать лет.
«Где он находился?» был одним из самых частых вопросов, которые мне задавали, когда я начала книгу о Равенсбрюке. Наряду с «Зачем нужен был отдельный женский лагерь? Были ли эти женщины еврейками? Был ли это лагерь смерти или рабочий лагерь? Жив ли кто-нибудь из них сейчас?»

Фото: Wikimedia Commons
В странах, потерявших больше всего людей в этом лагере, группы выживших старались сохранить память о произошедшем. Приблизительно 8000 французов, 1000 голландцев, 18000 русских и 40000 поляков были лишены свободы. Сейчас, в каждой из стран - по разным причинам - эта история забывается.
Невежество как англичан - у которых в лагере было всего лишь около двадцати женщин, - так и американцев, действительно пугает. В Британии могут знать о Дахау, первом концентрационном лагере, и, возможно, о лагере Берген-Бельзен, так как британские отряды освободили его и запечатлели увиденный ужас на кадрах, навсегда травмировавших британское сознание. Другое дело с Освенцимом, который стал синонимом уничтожения евреев в газовых камерах и оставил настоящий отголосок.
После прочтения материалов, собранных Верой, я решила взглянуть, что вообще было написано о лагере. Популярным историкам (почти все из которых - мужчины) практически нечего было сказать. Казалось, что даже книги, написанные после окончания холодной войны, описывали совершенно мужской мир. Затем мой друг, работающий в Берлине, поделился со мной солидной коллекцией эссе, написанных преимущественно немецкими женщинами-учеными. В 1990-х феминистские историки начали ответные действия. Эта книга призвана освободить женщин от анонимности, которую подразумевает слово «заключенный». Многие дальнейшие исследования, зачастую немецкие, строились по одному принципу: история Равенсбрюка рассматривалась слишком однобоко, что, казалось, заглушало всю боль страшных событий. Однажды мне довелось наткнуться на упоминания некой «Книги памяти» - она показалась мне чем-то куда более интересным, поэтому я попыталась связаться с автором.
Не раз мне попадались на глаза воспоминания и других заключенных, опубликованные в 1960–70-е годы. Их книги пылились в глубине публичных библиотек, хотя обложки у многих были крайне вызывающими. На обложке мемуаров учителя французской литературы, Мишелины Морель, красовалась роскошная, в стиле девушки Бонда, женщина, брошенная за колючую проволоку. Книга об одной из первых надзирательниц Равенсбрюка, Ирме Грезе, носила название The Beautiful Beast («Красивый зверь»). Язык этих мемуаров казался устаревшим, надуманным. Одни описывали надзирательниц как «лесбиянок со зверским взглядом», другие обращали внимание на «дикость» пленных немок, что «давало повод поразмышлять над основными добродетелями расы». Такие тексты сбивали с толку, складывалось ощущение, что ни один автор не знал, как хорошо сложить историю. В предисловии к одному из сборников воспоминаний известный французский писатель Франсуа Мориак писал, что Равенсбрюк стал «позором, который мир решил забыть». Возможно, мне лучше написать о другом, поэтому я отправилась на встречу с Ивонной Базеден, единственной выжившей, о которой у меня были сведения, чтобы узнать ее мнение.
Ивонна была одной из женщин подразделения УСО, которым руководила Вера Аткинс. Она была поймана, когда помогала Сопротивлению во Франции, и отправлена в Равенсбрюк. Ивонна всегда охотно рассказывала о своей работе в Сопротивлении, но стоило мне затронуть тему Равенсбрюка, как она тут же «ничего не знала» и отворачивалась от меня.
В этот раз я сказала, что собираюсь написать книгу о лагере, и надеюсь услышать ее рассказ. Она с ужасом подняла на меня взгляд.
«О, нет, вы не можете так поступить».
Я спросила, почему нет. «Это слишком ужасно. Неужели вы не можете написать о чем-нибудь другом? Как вы собираетесь рассказать своим детям, чем занимаетесь?»
А разве она не считала, что эту историю следует рассказать? «О, да. Никто вообще ничего не знает о Равенсбрюке. Никто так и не захотел узнать с момента нашего возвращения». Она посмотрела в окно.
Когда я уже собиралась уходить, она дала мне маленькую книгу - еще одни мемуары, с особенно ужасающей обложкой из сплетенных черных и белых фигур. Ивонна ее не читала, как она сказала, настойчиво протягивая мне книгу. Это выглядело так, словно ей хотелось от нее избавиться.
Дома я обнаружила под пугающей обложкой другую, голубого цвета. Книгу я прочла в один присест. Автором была молодой французский адвокат по имени Дениза Дюфурнье. Она смогла написать простую и трогательную историю борьбы за жизнь. «Мерзость» книги заключалась не только в том, что история Равенсбрюка была забыта, но и в том что все случилось на самом деле.
Через несколько дней в моем автоответчике раздалась французская речь. Говорила доктор Луиза ле Пор (в настоящее время Лиард), врач из города Мериньяк, которую я до этого считала мертвой. Однако сейчас она пригласила меня в Бордо, где она тогда жила. Я могла оставаться столько, сколько захочу, так как мы должны были многое обсудить. «Но вам стоило бы поторопиться. Мне 93 года».
Вскоре я связалась с Бербель Шиндлер-Зефков, автором «Книги памяти». Бербель, дочь немецкого заключенного-коммуниста, составляла «базу данных» заключенных; она долго путешествовала в поисках списков пленников в забытых архивах. Она дала мне адрес Валентины Макаровой, белорусской партизанки, пережившей Освенцим. Валентина ответила мне, предлагая навестить ее в Минске.
К моменту, когда я добралась до пригорода Берлина, снег стал сходить на нет. Я проехала мимо знака Заксенхаузена, где находился концентрационный лагерь для мужчин. Это значило, что я двигалась в правильном направлении. Заксенхаузен и Равенсбрюк были тесно связаны между собой. В мужском лагере даже пекли хлеб для женщин-заключенных, и каждый день его отправляли в Равенсбрюк по этой дороге. Первое время каждая женщина получала по половине буханки каждый вечер. К концу войны им давали едва ли больше тонкого кусочка, а «бесполезным ртам», как нацисты называли тех, от кого хотели избавиться, и вовсе ничего не доставалось.
Офицеры СС, надзиратели и заключенные регулярно переезжали из одного лагеря в другой, так как администрация Гиммлера старалась максимально использовать ресурсы. В начале войны женское отделение было открыто в Освенциме, а затем и в других мужских лагерях, а в Равенсбрюке обучались женщины-надзиратели, которые после направлялись в остальные лагеря. К концу войны из Освенцима в Равенсбрюк были направлены несколько офицеров СС высокого ранга. Заключенными также обменивались. Таким образом, несмотря на то, что Равенсбрюк был полностью женским лагерем, он заимствовал многие черты мужских лагерей.
Империя СС, созданная Гиммлером, была огромной: к середине войны насчитывалось не менее 15 000 нацистских лагерей, включавших в себя временные рабочие лагеря, а также тысячи вспомогательных, связанных с основными концентрационными лагерями, рассеянными по всей Германии и Польше. Самыми крупными и ужасающими были лагеря, построенные в 1942 году в рамках Окончательного решения еврейского вопроса. Согласно подсчетам, к концу войны было уничтожено 6 миллионов евреев. На сегодняшний день факты о геноциде евреев настолько хорошо известны и настолько ошеломляют, что многие считают, что гитлеровская программа уничтожения заключалась только в Холокосте.
Люди, интересовавшиеся Равенсбрюком, обычно очень удивляются, узнав, что большинство заключенных там женщин не были еврейками.
На сегодняшний день историки различают отдельные виды лагерей, но эти названия могут запутать. Равенсбрюк зачастую определяют как лагерь «рабского труда». Этот термин призван смягчить весь ужас происходившего, а также мог стать одной из причин, по которой лагерь был забыт. Определенно, Равенсбрюк стал важным элементом системы рабского труда - у компании Siemens, гиганта в мире электроники, там были заводы - но труд был всего лишь этапом на пути к смерти. Заключенные называли Равенсбрюк лагерем смерти. Выжившая француженка, этнолог Жермена Тильон, сказала, что людей там «медленно уничтожали».

Фото: PPCC Antifa
Отдаляясь от Берлина, я наблюдала белые поля, которые сменялись густыми деревьями. Время от времени я проезжала мимо заброшенных колхозов, оставшихся со времен коммунистов.
В глубине леса снег валил все сильнее, и мне стало трудно искать дорогу. Женщин из Равенсбрюка часто посылали в лес во время снегопада рубить деревья. Снег прилипал к их деревянным башмакам, так что они шли на своего рода снежных платформах, у них подворачивались ноги. Если они падали, на них бросались немецкие овчарки, которых вели рядом на поводках надзиратели.
Названия деревушек в лесу напоминали те, о которых я читала в показаниях. Из деревни Альтглобзо была родом Доротея Бинц, надзирательница с короткими волосами. Затем показался шпиль Фюрстенбергской церкви. Из центра города лагерь не было видно, но я знала, что он на другом берегу озера. Заключенные рассказывали, как, выходя из ворот лагеря, видели шпиль. Я проехала мимо Фюрстенбергской станции, где завершилось так много ужасных путешествий. Однажды февральской ночью сюда прибыли женщины Красной армии, которых привезли из Крыма в вагонах для перевозки скота.

Доротея Бинц на первом Равенсбрюкском суде в 1947 году. Фото: Wikimedia Commons
По другой стороне Фюрстенберга к лагерю вела вымощенная булыжником дорога, которую построили заключенные. По левую сторону стояли дома с двускатными крышами; благодаря Вериной карте я знала, что в этих домах жили надзиратели. В одном из домов располагался хостел, в котором я собиралась переночевать. Интерьер прежних владельцев давно заменили на безупречную современную обстановку, но духи надзирателей все еще живут в своих старых комнатах.
По правую сторону открывался вид на широкую и белоснежную гладь озера. Впереди была штаб-квартира коменданта и высокая стена. Через несколько минут я уже стояла у входа в лагерь. Впереди находилось еще одно широкое белое поле, засаженное липовыми деревьями, которые, как я потом узнала, были посажены в первые дни существования лагеря. Все бараки, которые располагались под деревьями, исчезли. Во время холодной войны русские использовали лагерь как танковую базу и снесли большую часть построек. Русские солдаты играли в футбол на месте, которое когда-то называлось Аппельплац и где заключенные стояли на перекличке. Я слышала о русской базе, но не ожидала обнаружить такую степень разрушения.
Лагерь Siemens, находившийся в нескольких сотнях метров от южной стены, зарос, и туда было очень трудно попасть. То же случилось и с пристройкой, «лагерем для молодых», где было совершено множество убийств. Я должна была нарисовать их в воображении, но мне не нужно было представлять холод. Заключенные часами стояли здесь, на площади, в тонкой хлопковой одежде. Я решила укрыться в «бункере», каменном тюремном здании, камеры которого были переделаны во время холодной войны в мемориалы погибшим коммунистам. Списки имен были выдолблены на сияющем черном граните.
В одной из комнат рабочие убирали мемориалы и заново отделывали помещение. Теперь, когда власть снова вернулась к западу, историки и архивисты работали над новым изложением произошедших здесь событий и над новой мемориальной выставкой.
Вне лагерных стен я нашла другие, более личные мемориалы. Рядом с крематорием находился длинный переход с высокими стенами, известный как «аллея стрельбы». Здесь лежал маленький букет роз: если бы они не замерзли, они бы завяли. Рядом была табличка с именем.
На печах в крематории лежали три букета цветов, розами был посыпан берег озера. С тех пор, как снова появился доступ к лагерю, стали приходить бывшие заключенные, чтобы помянуть погибших друзей. Мне необходимо было найти других выживших, пока у меня оставалось время.
Теперь я поняла, какой должна стать моя книга: биография Равенсбрюка от начала и до самого конца. Я должна изо всех сил постараться соединить осколки этой истории воедино. Книга должна пролить свет на преступления нацистов против женщин и показать, как понимание происходившего в женских женских лагерях может расширить наши знания об истории нацизма.
Столько улик было уничтожено, столько фактов забыто и исковеркано. Но все же многое сохранилось, и сейчас можно найти новые показания. Британские судебные протоколы давно вернулись в общественный доступ, и в них было найдено много деталей тех событий. Документы, которые скрывали за железным занавесом, тоже стали доступны: с момента окончания холодной войны русские частично открыли свои архивы, а в нескольких европейских столицах были найдены свидетельства, которые никогда до этого не были исследованы. Выжившие с восточной и западной стороны начали делиться друг с другом воспоминаниями. Их дети задавали вопросы, находили спрятанные письма и дневники.
Самую важную роль в создании этой книги сыграли голоса самих заключенных. Они будут направлять меня, раскрывать передо мной то, что действительно происходило. Несколько месяцев спустя, весной, я вернулась на ежегодную церемонию, чтобы отметить освобождение лагеря, и встретила Валентину Макарову, выжившую после марша смерти в Освенциме. Она писала мне из Минска. Ее волосы были белыми с голубым отливом, лицо - острое, как кремень. Когда я спросила, как ей удалось выжить, она ответила: «Я верила в победу». Она произнесла это так, как будто я должна была это знать.
Когда я подошла к помещению, в котором производились расстрелы, из-за туч на несколько минут неожиданно проглянуло солнце. Лесные голуби распевали в кронах лип, словно пытаясь заглушить шум от проносящихся мимо автомобилей. Возле здания был припаркован автобус, в котором приехали французские школьники; они столпились у машины, чтобы выкурить по сигарете.
Мой взгляд был устремлен на другой берег заледеневшего озера, где виднелся шпиль Фюрстенбергской церкви. Там, вдалеке, рабочие возились с лодками; летом посетители часто берут напрокат лодки, не догадываясь, что на дне озера лежит прах узников лагеря. Налетевший ветер гнал по кромке льда одинокую красную розу.
«1957 год. Раздается звонок в дверь, - вспоминает Маргарет Бубер-Нойман, выжившая узница Равенсбрюка. - Я открываю и вижу перед собой пожилую женщину: она тяжело дышит, а во рту недостает нескольких зубов. Гостья бормочет: „Неужели не узнаешь меня? Это я, Иоганна Лангефельд. Я была главной надсмотрщицей в Равенсбрюке“. В последний раз я видела ее четырнадцать лет назад, в ее кабинете в лагере. Я исполняла обязанности ее секретарши… Она часто молилась, прося Бога даровать ей силу покончить со злом, которое творилось в лагере, но каждый раз, когда на пороге ее кабинета появлялась еврейка, ее лицо искажала ненависть…
И вот мы сидим за одним столом. Она говорит, что хотела бы родиться мужчиной. Говорит о Гиммлере, которого время от времени по-прежнему называет „рейхсфюрером“. Она говорит, не умолкая, несколько часов, путается в событиях разных лет и пытается как-то оправдать свои действия»

Заключенные в Равенсбрюке.
Фото: Wikimedia Commons
В начале мая 1939 года из-за деревьев, окружающих затерянную в Мекленбургском лесу крошечную деревушку Равенсбрюк, показалась небольшая вереница грузовиков. Автомобили проехали берегом озера, но их оси увязли в болотистой прибрежной почве. Часть новоприбывших выскочили откапывать машины; другие начали разгружать привезенные ящики.
Среди них была и женщина в униформе - сером пиджаке и юбке. Ее ноги тут же увязли в песке, но она поспешно высвободилась, поднялась на вершину склона и осмотрела окрестности. Позади блестящей на солнце глади озера виднелись ряды поваленных деревьев. В воздухе повис запах опилок. Палило солнце, но нигде поблизости не было тени. Справа от нее, на дальнем берегу озера, располагался маленький городок Фюрстенберг. Побережье было усыпано лодочными домиками. Вдали виднелся церковный шпиль.
На противоположном берегу озера, слева от нее, вздымалась длинная серая стена высотой около 5 метров. Лесная тропа вела к возвышающимся над окрестностями железным воротам комплекса, на которых висели знаки «Посторонним вход воспрещен». Женщина - среднего роста, коренастая, с кудрявыми каштановыми волосами - целенаправленно двинулась к воротам.
Иоганна Лангефельд прибыла с первой партией надсмотрщиков и узников, чтобы проследить за разгрузкой оборудования и осмотреть новый концентрационный лагерь для женщин; планировалось, что он начнет функционировать через несколько дней, а Лангефельд станет оберауфзеерин - старшей надсмотрщицей. За свою жизнь она повидала немало женских исправительных заведений, но ни одно из них не шло ни в какое сравнение с Равенсбрюком.
За год до нового назначения Лангефельд занимала должность старшей надсмотрщицы в Лихтенбурге, средневековой крепости возле Торгау, города на берегу Эльбы. Лихтенбург был временно превращен в женский лагерь на период строительства Равенсбрюка; осыпавшиеся холлы и сырые подземелья были тесными и способствовали возникновению заболеваний; условия содержания были невыносимыми для женщин. Равенсбрюк был построен специально для предназначенной ему цели. Территория лагеря составляла около шести акров - достаточно, чтобы с лихвой вместить около 1000 женщин из первой партии заключенных.
Лангефельд прошла через железные ворота и прогулялась по Аппельплац - главной площади лагеря размером с футбольное поле, способной при необходимости вместить всех узников лагеря. По краям площади, над головой Лангефельд, висели громкоговорители, хотя пока что единственным звуком на территории лагеря был доносившийся издалека стук забиваемых гвоздей. Стены отсекали лагерь от внешнего мира, оставляя видимым лишь небо над его территорией.
В отличие от мужских концлагерей, в Равенсбрюке вдоль стен не было сторожевых вышек и пулеметных установок. Однако по периметру внешней стороны стены змеилась электрическая изгородь, сопровождавшаяся табличками с черепом и скрещенными костями, предупреждающими, что изгородь находится под высоким напряжением. Только к югу, справа от Ленгефельд, поверхность поднималась достаточно, чтобы можно было различить верхушки деревьев на холме.
Основной постройкой на территории лагеря были огромные серые бараки. Деревянные дома, возведенные в шахматном порядке, представляли собой одноэтажные здания с крохотными окнами, облепившие центральную площадь лагеря. Два ряда точно таких же бараков - единственным различием был лишь несколько больший размер - располагались по обе стороны от Лагерштрассе, главной улицы Равенсбрюка.
Лангефельд последовательно осматривала блоки. Первым была столовая СС с новенькими столами и стульями. Слева от Аппельплац также находился Ревир - этот термин немцы использовали для обозначения лазаретов и медотсеков. Перейдя площадь, она зашла в санитарный блок, укомплектованный десятками душевых. В углу помещения громоздились коробки с полосатыми хлопковыми робами, а за столом горстка женщин раскладывала стопки цветных фетровых треугольников.
Под одной крышей с баней располагалась лагерная кухня, сияющая от больших кастрюль и чайников. В следующем здании находился склад тюремной одежды, Effektenkammer , где хранились кучи больших коричневых бумажных пакетов, а дальше - прачечная, Wäscherei , с шестью центрифужными стиральными машинами - Лангефельд хотела бы, чтобы их было побольше.
Неподалеку строилась птицеферма. Генрих Гиммлер, глава СС, управлявший концлагерями и еще много чем в нацистской Германии, хотел, чтобы его создания были настолько самодостаточными, насколько возможно. В Равенсбрюке планировалось построить клетки для кроликов, курятник и огород, а также разбить фруктовый и цветочный сады, куда уже начинали пересаживать кусты крыжовника, привезенные из садов концлагеря Лихтенбург. Содержимое лихтенбургских выгребных ям тоже привозили в Равенсбрюк и использовали в качестве удобрения. Помимо всего прочего, Гиммлер требовал, чтобы лагеря объединяли ресурсы. В Равенсбрюке, например, не было хлебных печей, поэтому хлеб ежедневно привозили из Заксенхаузена, мужского лагеря в 80 км к югу.
Старшая надзирательница ходила по Лагерштрассе (главная улица лагеря, идущая между бараками - прим. Newочём ), которая начиналась на дальней стороне Аппельплац и вела вглубь лагеря. Бараки располагались вдоль Лагерштрассе в точном порядке, так, что окна одного корпуса выходили на заднюю стену другого. В этих постройках, по 8 с каждой стороны «улицы», жили заключенные. У первого барака были высажены красные цветы шалфея; между остальными росли саженцы липы.
Как и во всех концлагерях, сеточная планировка использовалась в Равенсбрюке прежде всего для того, чтобы заключенных всегда было видно, а значит, надзирателей требовалось меньше. Туда была направлена бригада из тридцати надзирательниц и отряд из двенадцати мужчин-эсэсовцев - все вместе под командованием штурмбаннфюрера Макса Кёгеля.
Иоганна Лангефельд верила, что она может управлять женским концлагерем лучше, чем любой мужчина, и определенно лучше, чем Макс Кёгель, чьи методы она презирала. Гиммлер, однако, ясно дал понять, что управление Равенсбрюком должно полагаться на принципы управления мужскими лагерями, а значит, Лангефельд и ее подчиненные должны были отчитываться коменданту СС.
Формально ни она, ни остальные надзирательницы не имели к лагерю никакого отношения. Они не просто подчинялись мужчинам - у женщин не было никакого звания или ранга - они являлись лишь «вспомогательными силами» СС. Большинство оставались без оружия, хотя те, что охраняли трудовые наряды, носили при себе пистолет; у многих были служебные собаки. Гиммлер считал, что женщины боятся собак больше, чем мужчины.
Тем не менее, власть Кёгеля здесь не была абсолютной. На тот момент он был лишь исполняющим обязанности коменданта и некоторыми полномочиями не обладал. Например, в лагере не разрешалось иметь специальную тюрьму, или «бункер», для нарушителей порядка, что было заведено в мужских лагерях. Он также не мог назначать «официальные» избиения. Разозленный ограничениями, штурмбаннфюрер направил начальникам в СС запрос об увеличении полномочий по наказанию заключенных, но просьба не была удовлетворена.
Однако Лангефельд, высоко ценившую муштру и дисциплину, а не избиения, подобные условия устраивали, главным образом когда она смогла добиться значительных уступок в повседневном управлении лагерем. В своде правил лагеря, Lagerordnung , было отмечено, что старшая надзирательница вправе консультировать шутцхафтлагерфюрера (первого заместителя коменданта) по «женским вопросам», хотя содержание их определено не было.
Лангефельд оглядывалась, заходя в один из бараков. Как и многое, организация отдыха заключенных в лагере была для нее в новинку - более 150 женщин просто спали в каждом помещении, отдельных камер, как она привыкла, не предусматривалось. Все корпуса были разделены на две большие спальные комнаты, A и B, по обе стороны от них - зоны для мытья, с рядом из двенадцати тазов для купания и двенадцати уборных, а также общая дневная комната, где ели заключенные.
Спальные зоны были заставлены трехэтажными койками, сколоченными из деревянных досок. У каждого заключенного был набитый опилками матрас, подушка, простыня и одеяло в сине-белую клетку, сложенное у кровати.
Ценность муштры и дисциплины Лангефельд прививали с ранних лет. Она родилась в семье кузнеца под именем Иоганна Мэй, в городке Купфердре, Рурской области, в марте 1900 года. Ее со старшей сестрой воспитывали в строгой лютеранской традиции - родители вбивали в них важность бережливости, послушания и ежедневной молитвы. Как и всякая порядочная протестантка, Иоганна с детства знала, что ее жизнь будет определена ролью верной жены и матери: «Kinder, Küche, Kirche», то есть «дети, кухня, церковь», что было в доме ее родителей знакомым правилом. Но с малых лет Иоганна мечтала о большем.
Ее родители нередко говорили о прошлом Германии. После воскресного посещения церкви они вспоминали унизительную оккупацию их любимого Рура войсками Наполеона, и вся семья становилась на колени, моля Бога, чтобы он вернул Германии былое величие. Кумиром девочки была ее тезка, Иоганна Прохазска, героиня освободительных войн начала 19 века, притворявшаяся мужчиной, чтобы сражаться с французами.
Все это Иоганна Лангефельд рассказала Маргарет Бубер-Нойман, бывшей заключенной, в чью дверь она постучалась спустя много лет, в попытках «объяснить свое поведение». Маргарет, заключенная в Равесбрюке в течение четырех лет, была шокирована появлением бывшей надзирательницы на пороге ее дома в 1957 году; рассказ Лангефельд о ее «одиссее» Нойман крайне заинтересовал, и она его записала.
В год начала Первой мировой войны, Иоганна, которой тогда было 14 лет, вместе с остальными радовалась, когда юноши Купфердре уходили на фронт, чтобы вернуть величие Германии, пока не осознала, что ее роль и роль всех немок в этом деле была невелика. Через два года стало ясно, что конец войны наступит нескоро, и немецкие женщины внезапно получили приказ идти работать в шахтах, конторах и на фабриках; там, глубоко в тылу, женщины получили возможность взяться за мужскую работу, но лишь для того, чтобы вновь остаться не у дел после возвращения мужчин с фронта.
Два миллиона немцев погибли в окопах, но шесть миллионов выжило, и теперь Иоганна наблюдала за солдатами Купфердре, многие из которых были изуродованы, все до единого - унижены. По условиям капитуляции Германия была обязана выплачивать репарации, подрывавшие экономику и разгонявшие гиперинфляцию; в 1924 году любимый Иоганной Рур снова был оккупирован французами, «укравшими» немецкий уголь в наказание за невыплаченные репарации. Ее родители потеряли свои сбережения, она искала работу без гроша в кармане. В 1924 году Иоганна вышла замуж за шахтера по имени Вильгельм Лангефельд, который через два года умер от болезни легких.
Здесь «одиссея» Иоганны прерывалась; она «растворилась в годах», писала Маргарет. Середина двадцатых стала темным периодом, выпавшим из ее памяти - она разве что сообщила о связи с другим мужчиной, в результате чего она забеременела и оказалась зависимой от протестантских благотворительных групп.
Пока Лангефельд и миллионы ей подобных выживали с трудом, другие немки в двадцатых обрели свободу. Руководимая социалистами Веймарская республика приняла финансовую помощь от Америки, смогла стабилизировать страну и следовать новому либеральному курсу. Немецкие женщины получили право голоса и впервые в истории вступили в политические партии, особенно левого толка. Подражая Розе Люксембург, лидеру коммунистического движения «Спартак», девушки из среднего класса (в их числе Маргарет Бубер-Нойман) стригли волосы, смотрели пьесы Бертольда Брехта, бродили по лесам и болтали о революции с товарищами из молодежной коммунистической группы «Вандерфогель». Тем временем женщины из рабочего класса по всей стране собирали деньги для «Красной помощи», вступали в профсоюзы и бастовали у фабричных ворот.
В 1922 году в Мюнхене, когда Адольф Гитлер винил в невзгодах Германии «разжиревшего жида», рано повзрослевшая еврейская девочка по имени Ольга Бенарио сбежала из дома, чтобы вступить в коммунистическую ячейку, отказавшись от своих благополучных родителей из среднего класса. Ей было четырнадцать лет. Через несколько месяцев темноглазая школьница уже водила товарищей по тропам Баварских Альп, купалась в горных ручьях, а потом читала с ними Маркса у костра и планировала германскую коммунистическую революцию. В 1928 году она прославилась, напав на здание берлинского суда и освободив немецкого коммуниста, которому грозила гильотина. В 1929 году Ольга уехала из Германии в Москву, тренироваться со сталинской элитой, прежде чем уехать устраивать революцию в Бразилии.
 Ольга Бенарио. Фото: Wikimedia Commons
Ольга Бенарио. Фото: Wikimedia Commons
Тем временем в обедневшей долине Рура Иоганна Лангефельд к этому моменту уже была матерью-одиночкой без надежд на будущее. Обвал на Уолл-Стрит 1929 года вызвал мировую депрессию, ввергнувшую Германию в новый и еще более глубокий экономический кризис, лишивший работы миллионы людей и спровоцировавший широкое недовольство. Больше всего Лангефельд боялась, что у нее отберут ее сына Герберта, если она окажется в нищете. Но вместо того, чтобы присоединиться к нищим, она решила им помогать, обратившись к Богу. Именно религиозные убеждения побудили ее работать с беднейшими из бедных, как она рассказала Маргарет за кухонным столом во Франкфурте спустя все эти годы. Она нашла работу в службе социальной помощи, где обучала домоводству безработных женщин и «перевоспитывала проституток».
В 1933 году Иоганна Лангефельд обрела нового спасителя в лице Адольфа Гитлера. Программа Гитлера для женщин не могла быть проще: немки должны были сидеть дома, рожать как можно больше арийских детей и подчиняться своим мужьям. Женщины не подходили для общественной жизни; большая часть рабочих мест оказалась бы недоступна для женщин, а их возможность поступать в университеты ограничена.
Такие настроения легко было найти в любой европейской стране 30-х годов, но формулировки нацистов в отношении женщин были уникальны в своей оскорбительности. Окружение Гитлера не только с открытым презрением говорило о «тупом», «низшем» женском поле - они раз за разом требовали «сегрегации» между мужчинами и женщинами, как будто мужчины вообще не видели в женщинах смысла, кроме как приятного украшения и, разумеется, источника потомства. Евреи были не единственными козлами отпущения Гитлера за беды Германии: женщины, эмансипированные в годы Веймарской республики, обвинялись в воровстве рабочих мест у мужчин и развращении национальной морали.
И все же Гитлер смог очаровать миллионы немок, желавших, чтобы «мужчина с железной хваткой» вернул гордость и веру в Рейх. Толпы таких его сторонниц, многие из которых были глубоко религиозны и раззадорены антисемитской пропагандой Йозефа Геббельса, присутствовали на Нюрнбергском митинге в честь победы нацистов в 1933 году, где с толпой смешался американский репортер Уильям Ширер. «Гитлер въехал сегодня в этот средневековый город на закате мимо стройных фаланг ликующих нацистов… Десятки тысяч флагов со свастикой заслоняют готические пейзажи этого места…» Позже тем же вечером, снаружи отеля, где остановился Гитлер: «Я был слегка шокирован от вида лиц, особенно лиц женщин… Они смотрели на него, как на Мессию…»
Не стоит даже сомневаться, что Лангефельд отдала свой голос за Гитлера. Она жаждала отомстить за унижение своей страны. И ей была приятна идея «уважения к семье», о которой говорил Гитлер. У нее были и личные причины быть благодарной режиму: впервые у неё появилась стабильная работа. Для женщин - и уж тем более для матерей-одиночек - большинство путей карьерного роста были закрыты, кроме того, что выбрала Ленгефельд. Из службы социального обеспечения её перевели на тюремную службу. В 1935 году ее снова повысили: она стала главой исправительной колонии для проституток в Браувайлере, неподалеку от Кёльна.
В Браувайлере уже стало казаться, что она не так уж полностью разделяет методы нацистов по помощи «беднейшим из бедных». В июле 1933 года приняли закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Стерилизация стала способом борьбы со слабаками, бездельниками, преступниками и сумасшедшими. Фюрер был уверен, что все эти дегенераты - пиявки государственной казны, их следует лишить потомства, чтобы усилить Volksgemeinschaft - сообщество чистокровных немцев. В 1936 году глава Браувайлера Альберт Бозе заявил, что 95% его узниц «неспособны к улучшению и должны быть стерилизованы из моральных соображений и желания создать здоровый Фольк».
В 1937 году Бозе уволил Лангефельд. В записях Браувайлера указано, что уволена она за воровство, но на самом деле из-за её борьбы с такими методами. В записях также сказано, что Лангефельд всё еще не вступила в партию, хотя это было обязательным для всех работников.
Идея об «уважении» к семье не провела Лину Хаг, жену члена коммунистического парламента в Вютенберге. 30 января 1933 года, когда она услышала, что Гитлера избрали канцлером, ей стало понятно, что новая служба безопасности, гестапо, придёт за её мужем: «На собраниях мы предупреждали всех об опасности Гитлера. Думали, что люди пойдут против него. Мы ошиблись».
Так и случилось. 31 января в 5 утра, пока Лина с мужем еще спали, к ним заявились громилы гестапо. Начался пересчет «красных». «Каски, револьверы, дубинки. Они с явным удовольствием ходили по чистому белью. Мы вовсе не были незнакомцами: мы знали их, а они - нас. Они были взрослыми мужчинами, согражданами - соседями, отцами. Обычные люди. Но они наставили на нас заряженные пистолеты, а в глазах их была лишь ненависть».
Муж Лины стал одеваться. Лина удивилась, как он умудрился так быстро накинуть пальто. Он что, уйдет, не проронив и слова?
Ты чего? - спросила она.
- А что поделать, - произнес он и пожал плечами.
- Он же член парламента! - кричала она вооруженным дубинками полицейским. Они засмеялись.
- Слыхал? Коммуняка, вот кто ты. Но мы эту заразу с тебя счистим.
Пока отца семейства вели под конвоем, Лина пыталась оттащить их кричащую десятилетнюю дочь Кэти от окна.
- Не думаю, что люди станут мириться с этим, - произнесла Лина.
Четыре недели спустя, 27 февраля 1933 года, пока Гитлер пытался захватить власть в партии, кто-то поджег немецкий парламент, Рейхстаг. Обвинили коммунистов, хотя многие предполагали, что за поджогом стоят нацисты, которые искали повод для запугивания политических противников. Гитлер сразу же выпустил приказ о «превентивном задержании», теперь любой мог попасть под арест за «измену». Всего в десяти милях от Мюнхена готовился к открытию новый лагерь для таких «предателей».
Первый концентрационный лагерь, Дахау, открылся 22 марта 1933 года. В последующие недели и месяцы полиция Гитлера разыскивала каждого коммуниста, пусть даже потенциального, и привозила их туда, где их дух должны были сломить. Социал-демократов ждала та же судьба, как и членов профсоюзов, и всех прочих «врагов государства».
В Дахау были евреи, особенно среди коммунистов, но их было немного - в первые годы правления нацистов евреев не арестовывали в огромных количествах. Сидевшие на тот момент в лагерях были арестованы за сопротивление Гитлеру, а не за расовую принадлежность. Сперва основной целью концентрационных лагерей было подавить сопротивление внутри страны, а после этого можно было приниматься за остальные цели. За подавление отвечал наиболее подходящий для этого дела человек - Генрих Гиммлер, глава СС, вскоре ставший также главой полиции, включая гестапо.
Генрих Луйтпольд Гиммлер не походил на обычного главу полиции. Он был невысоким, худощавым мужчиной со слабым подбородком и очками в золотой оправе на остром носу. Родился 7 октября 1900 года, был средним ребенком в семье Гебхарда Гиммлера, помощника директора школы близ Мюнхена. Вечера в их мюнхенской уютной квартирке он проводил, помогая Гиммлеру-старшему с его коллекцией марок либо слушая о героических похождениях деда-военного, пока очаровательная мать семейства - набожная католичка - вышивала, сидя в углу.
Юный Генрих отлично учился, но другие ученики его считали зубрилой и частенько задирали. На физкультуре он едва дотягивался до брусьев, поэтому преподаватель заставлял его заниматься мучительными приседаниями под улюлюканье одноклассников. Годами позже Гиммлер в мужском концентрационном лагере изобрел новую пытку: узников сковывали в круг и заставляли прыгать и приседать, пока они не упадут. А после их лупили, чтобы убедиться, что те не встанут.
После окончания школы Гиммлер мечтал вступить в ряды армии и даже побыл кадетом, но плохое здоровье и зрение помешали ему стать офицером. Вместо этого он изучал земледелие и и разводил цыплят. Его поглотила другая романтическая мечта. Он вернулся на родину. В свое свободное время гулял по любимым Альпам, зачастую с матерью, или изучал астрологию с генеалогией, попутно делая заметки в дневнике о каждой детали в своей жизни. «Мысли и тревоги всё никак не покидают мою голову», - жалуется он.
К двадцати годам Гиммлер постоянно ругал себя за несоответствие социальным и сексуальным нормам. «Я вечно лепечу», - писал он, а когда дело касалось секса: «Я не даю себе и слова проронить». К 1920-ым годам он вступил в мюнхенское мужское общество Туле, где обсуждались истоки арийского превосходства и еврейская угроза. Его также приняли в мюнхенское ультраправое крыло парламентариев. «Как же хорошо снова надеть форму», - отмечал он. Национал-социалисты (нацисты) начинали переговариваться о нём: «Генрих всё исправит». Ему не было равных в организационных навыках и внимании к деталям. Он также показал, что может предугадывать пожелания Гитлера. Как выяснил Гиммлер, очень полезно быть «хитрым, как лис».
В 1928 году он женился на Маргарет Боден, медсестре, старше него на семь лет. У них родилась дочь Гудрун. Гиммлер преуспевал и в профессиональной сфере: в 1929 году его назначили главой СС (тогда они занимались лишь охраной Гитлера). К 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Гиммлер превратил СС в элитное подразделение. Одной из его задач стало управление концентрационными лагерями.
Гитлер предложил идею концентрационных лагерей, в которых можно было бы собирать и подавлять оппозиционеров. В качестве примера он ориентировался на концентрационные лагеря британцев времен южноафриканской войны 1899-1902 годов. За стиль нацистских лагерей отвечал Гиммлер; он лично выбрал место для прототипа в Дахау и его коменданта - Теодора Эйке. Впоследствии Эйке стал командиром подразделения «Мертвая голова» - так называли отряды охраны концентрационных лагерей; его члены носили на фуражках значок с черепом и костями, показывая свое родство со смертью. Гиммлер приказал Эйке разработать план по сокрушению всех «врагов государства».
Именно этим Эйке и занялся в Дахау: он создал школу СС, ученики звали его «Папа Эйке», он «закалял» их перед тем, как отправить в другие лагеря. Закалка подразумевала, что ученики должны уметь скрывать свою слабость перед врагами и «показывать только оскал» или, другими словами, уметь ненавидеть. Среди первых рекрутов Эйке был и Макс Кёгель, будущий комендант Равенсбрюка. Он пришел в Дахау в поисках работы - он сидел за кражу и только недавно вышел.
Кёгель родился на юге Баварии, в горном городке Фюссен, который знаменит лютнями и готическими замками. Кёгель был сыном пастуха и осиротел в 12 лет. Подростком он пас скот в Альпах, пока не начал искать работу в Мюнхене и не попал в ультраправое «народное движение». В 1932 году вступил в нацистскую партию. «Папа Эйке» быстро нашел применение тридцативосьмилетнему Кёгелю, ведь тот уже был человеком прочнейшей закалки.
В Дахау Кёгель служил и с другими СС-овцами, например, с Рудольфом Хёссом, еще одним рекрутом, будущийм комендантом Освенцима, успевшим послужить в Равенсбрюке. Впоследствии Хёсс с любовью вспоминал свои дни в Дахау, рассказывая о кадровом составе СС, глубоко полюбившем Эйке и навсегда запомнившем его правила, что «навсегда остались с ними в их плоти и крови».
Успех Эйке был так велик, что вскоре по модели Дахау построили еще несколько лагерей. Но в те годы ни Эйке, ни Гиммлер, ни кто-либо еще даже не думали о концентрационном лагере для женщин. Женщин, что боролись с Гитлером, попросту не рассматривали как серьезную угрозу.
Под репрессии Гитлера попали тысячи женщин. Во времена Веймарской республики многие из них почувствовали себя свободными: члены профсоюзов, врачи, преподаватели, журналисты. Зачастую они были коммунистами или женами коммунистов. Их арестовывали, отвратительно с ними обращались, но не отправляли в лагеря по типу Дахау; даже мысли не возникало открыть женское отделение в мужских лагерях. Вместо этого их отправляли в женские тюрьмы или колонии. Режим там был жесткий, но терпимый.
Многих политических узников отвозили в Моринген, трудовой лагерь под Ганновером. 150 женщин спали в незапертых комнатах, а охранники бегали покупать шерсть для вязания по их поручениям. В тюремных помещениях гремели швейные машинки. Стол «знати» стоял отдельно от остальных, за ним сидели старшие члены Рейхстага и жены фабрикантов.
Тем не менее, как выяснил Гиммлер, женщин можно пытать иначе, чем мужчин. Тот простой факт, что мужчин убили, а детей забрали - обычно в нацистские приюты - уже был достаточно мучительным. Цензура же не позволяла попросить помощи.
Барбара Фюрбрингер попыталась предупредить свою сестру из Америки, когда услышала, что ее муж, депутат Рейхстага коммунистических взглядов, был замучен до смерти в Дахау, а их детей нацисты определили в приемную семью:
Дорогая сестра!
К сожалению, дела идут плохо. Мой дорогой муж Теодор внезапно умер в Дахау четыре месяца назад. Наших троих детей поместили в государственный благотворительный дом в Мюнхене. Я нахожусь в женском лагере в Морингене. На моем счету больше не осталось ни пенни.
Цензура не пропустила ее письмо, и ей пришлось его переписать:
Дорогая сестра!
К сожалению, дела идут не так, как хотелось бы. Мой дорогой муж Теодор умер четыре месяца назад. Наши трое детей живут в Мюнхене, на Бреннер Штрассе, 27. Я живу в Морингене, недалеко от Ганновера, на Брайте Штрассе, 32. Я была бы очень признательна, если бы ты выслала мне немного денег.
Гиммлер рассчитывал, что если сломление мужчин будет достаточно устрашающим, то все остальные будут вынуждены уступить. Метод во многом оправдал себя, как заметила Лина Хаг, арестованная через несколько недель после своего мужа и помещенная в другую тюрьму: «Разве никто не видел, к чему все идет? Разве никто не видел правды за бесстыдной демагогией статей Геббельса? Я видела это даже сквозь толстые стены тюрьмы, в то время как все больше и больше людей на свободе подчинялись их требованиям».
К 1936 году политическая оппозиция была полностью уничтожена, а гуманитарные подразделения немецких церквей стали поддерживать режим. Немецкий Красный Крест примкнул к стороне нацистов; на всех встречах знамя Красного Креста стало соседствовать со свастикой, а блюститель женевских конвенций, Международный комитет Красного Креста, инспектировал лагери Гиммлера – или, по крайней мере, образцовые блоки – и давал зеленый свет. Западные страны восприняли существование концлагерей и тюрем как внутреннее дело Германии, посчитав это не своим делом. В середине 1930-х годов большинство западных лидеров все еще верили, что величайшая угроза миру исходит от коммунизма, а не нацистской Германии.
Несмотря на отсутствие значимой оппозиции как внутри страны, так и за рубежом, на начальном этапе своего правления фюрер внимательно следил за общественным мнением. В речи, произнесенной в тренировочном лагере СС, он отметил: «Я всегда знаю, что я никогда не должен делать ни единого шага, который мог бы повернуть вспять. Всегда нужно ощущать ситуацию и спрашивать себя: „От чего я могу отказаться в настоящий момент, и от чего не могу?“»
Даже борьба против немецких евреев поначалу продвигалась намного медленнее, чем хотели многие члены партии. В первые годы Гитлер издал законы, препятствующие трудоустройству и публичной жизни евреев, подстегивая ненависть и гонения, но он посчитал, что перед тем как делать последующие шаги, должно пройти некоторое время. Гиммлер тоже умел чувствовать ситуацию.
В ноябре 1936 года рейхсфюреру СС, который был не только главой СС, но и начальником полиции, пришлось иметь дело с потрясением на международной арене, зародившимся в сообществе немецких коммунисток. Его причина сошла с парохода в Гамбурге прямиком в руки гестапо. Она была на восьмом месяце беременности. Ее звали Ольга Бенарио. Длинноногая девушка из Мюнхена, сбежавшая из дома и ставшая коммунисткой, теперь была 35-ти летней женщиной, находившейся на пороге всеобщей известности среди коммунистов мира.
После обучения в Москве в начале 1930-х годов, Ольгу приняли в Коминтерн, и в 1935 году Сталин отправил ее в Бразилию, чтобы помочь скоординировать переворот против президента Жетулиу Варгаса. Операцией руководил легендарный лидер бразильских повстанцев Луис Карлос Престес. Мятеж организовывался с целью совершить коммунистическую революцию в самой большой стране Южной Америки, тем самым предоставляя Сталину плацдарм в западном полушарии. Однако с помощью полученной от британской разведки информации план был раскрыт, Ольгу арестовали вместе с другой заговорщицей, Элизой Эверт, и отправили Гитлеру в качестве «подарка».
Из гамбургских доков Ольгу переправили в берлинскую тюрьму Барминштрассе, где четыре недели спустя она родила девочку, Аниту. Коммунисты всего мира запустили кампанию с целью освободить их. Дело привлекло широкое внимание, во многом благодаря тому, что отцом ребенка был небезызвестный Карлос Престес, лидер неудавшегося переворота; они влюбились в друг друга и сыграли свадьбу в Бразилии. Смелость Ольги и ее мрачноватая, но утонченная красота добавляли истории остроты.
Столь неприятная история была особенно нежелательна для огласки в год проведения Олимпийских игр в Берлине, когда немало было сделано для обеления образа страны. (Например, до начала Олимпиады была произведена облава на берлинских цыган. С целью убрать их с глаз общественности, их согнали в огромный лагерь, построенный на болоте в берлинском пригороде, Марцане). Начальники гестапо предприняли попытку разрядить обстановку предложением освободить ребенка, передав его в руки матери Ольги, еврейки Евгении Бенарио, которая в то время проживала в Мюнхене, но Евгения не захотела принять ребенка: она давным-давно отреклась от своей дочери-коммунистки и сделала то же самое с внучкой. Затем Гиммлер дал разрешение матери Престеса, Леокадии, забрать Аниту, и в ноябре 1937 года бразильская бабушка забрала ребенка из тюрьмы Барминштрассе. Ольга, лишенная малыша, осталась в камере одна.
В письме к Леокадии она объяснила, что у нее не было времени подготовиться к разлуке:
«Прости, что вещи Аниты в таком состоянии. Ты получила ее распорядок дня и таблицу с весом? Я, как могла, старалась составить таблицу. Ее внутренние органы в порядке? А кости - ее ножки? Возможно, она пострадала из-за чрезвычайных обстоятельств моей беременности и ее первого года жизни»
К 1936 году число женщин в немецких тюрьмах начало расти. Несмотря на страх, немки продолжали действовать подпольно, многие вдохновились началом гражданской войны в Испании. Среди отправленных в женский «лагерь» Моринген в середине 1930-х было больше коммунисток и бывших участниц Рейхстага, а также женщин, действующих в маленьких группах или в одиночку вроде художницы-инвалида Герды Лиссак, создававшей антинацистские листовки. Илсе Гостински, молодая еврейка, печатавшая на машинке статьи, критикующие фюрера, была арестована по ошибке. Гестапо разыскивало ее сестру-близнеца Елсе, но та была в Осло, организовала пути для эвакуации еврейских детей, поэтому они забрали Илсе вместо нее.
В 1936 году 500 немецких домохозяек с Библиями и в аккуратных белых головных платках прибыли в Моринген. Эти женщины, свидетели Иеговы, протестовали, когда их мужей призвали в армию. Они заявляли, что Гитлер - антихрист, что Бог - единственный правитель на Земле, не фюрер. Их мужей и других мужчин свидетелей Иеговы отправили в новый лагерь Гитлера под названием Бухенвальд, где им полагалось по 25 ударов кожаным кнутом. Но Гиммлер знал, что даже его эсэсовцам не достает смелости пороть немецких домохозяек, поэтому в Морингене начальник тюрьмы, любезный хромой солдат в отставке, просто забрал у свидетелей Иеговы Библии.
В 1937 году принятие закона против Rassenschande - буквально, «осквернения расы» - запрещающего отношения между евреями и не-евреями, повлек дальнейший приток евреек в Моринген. Позже, во второй половине 1937 года, женщины, заключенные в лагере, заметили внезапный рост числа бродяг, привезенных уже «хромающими; некоторые с костылями, многие кашляют кровью». В 1938 прибыло множество проституток.
Эльза Круг работала как обычно, когда группа дюссельдорфских полицейских, прибыв по адресу Корнелиусштрассе, 10, начала с криками ломиться в дверь. Было 2 часа ночи, 30 июля 1938 года. Полицейские рейды стали обычным делом, и у Эльзе не было причин для паники, хотя в последнее время они стали проходить чаще. Проституция, согласно законам нацистской Германии, была законна, но у полиции было много предлогов к действию: возможно, одна из женщин не прошла тест на сифилис, или офицеру требовалась наводка на очередную коммунистическую ячейку в доках Дюссельдорфа.
Несколько дюссельдорфских офицеров знали этих женщин лично. Эльза Круг всегда пользовалась спросом либо из-за предоставляемых ею особых услуг - она занималась садомазохизмом - либо из-за сплетен, а она всегда держала ухо востро. Эльза была известна и на улицах; она по возможности брала девушек под крыло, особенно если беспризорница только приехала в город, ведь Эльза оказалась на улицах Дюссельдорфа в том же положении десять лет назад - без работы, вдали от дома и без гроша за душой.
Однако вскоре оказалось, что рейд 30 июля был особенным. Напуганные клиенты схватили, что могли, и полуголыми выбежали на улицу. Той же ночью похожие рейды прошли и неподалеку от места, где работала Агнес Петри. Мужа Агнес, местного сутенера, тоже схватили. Прочесав квартал, полицейские задержали в общем 24 проститутки, и к шести утра они все сидели за решеткой, без информации об освобождении.
Отношение к ним в полицейском участке тоже было другим. Дежурный - сержант Пайне - знал, что большинство проституток не раз ночевало в местных камерах. Вынув большой темный учетный журнал, он записывал их обычным образом, помечая имена, адреса и личные вещи. Однако в колонке под названием «причина ареста» Пайнейн старательно, напротив каждого имени, писал «Asoziale», «асоциальный тип», - слово, которого он раньше не использовал. А в конце колонки, тоже впервые, появилась красная надпись - «Транспортировка».
В 1938 году похожие рейды прошли по всей Германии, поскольку нацистские чистки бедных слоев населения перешли на новую стадию. Правительство запустило программу Aktion Arbeitsscheu Reich (Движение против тунеядцев), нацеленную против тех, кто считался маргиналами. Это движение не было замечено остальным миром, широкой огласки оно не получило и в Германии, но более 20 тысяч так называемых «асоциалов» - «бродяг, проституток, тунеядцев, попрошаек и воров» - было поймано и отправлено в концентрационные лагеря.
До начала Второй мировой войны оставался еще год, но война Германии с собственными нежелательными элементами уже началась. Фюрер заявил, что при подготовке к войне страна должна оставаться «чистой и сильной», поэтому «бесполезные рты» должны быть закрыты. С приходом Гитлера к власти началась массовая стерилизация психически больных и умственно отсталых. В 1936 году цыгане были помещены в резервации рядом с крупными городами. В 1937 году тысячи «закоренелых преступников» были без суда отправлены в концентрационные лагеря. Гитлер одобрял подобные меры, но зачинщиком преследований был начальник полиции и глава СС Генрих Гиммлер, который также призывал отправить «асоциалов» в концентрационные лагеря в 1938 году.
Выбранное время имело значение. Задолго до 1937 года лагеря, изначально созданные, чтобы избавиться от политической оппозиции, начали пустеть. Коммунисты, социальные демократы и другие, арестованные в первые года правления Гиммлера, в основном были разбиты и большинство из них вернулись домой сломленными. Гиммлер, выступавший против столь массового освобождения, видел, что его ведомство находится в опасности, и начал искать новые применения для лагерей.
До этого никто на полном серьезе не предлагал использовать концлагеря не только для политической оппозиции, и, наполнив их преступниками и отбросами общества, Гиммлер мог возродить свою карательную империю. Он считал себя не просто начальником полиции, его интерес к науке - ко всем видам экспериментов, которые могут помочь создать идеальную арийскую расу - всегда был его главной целью. Собирая «дегенератов» внутри своих лагерей, он обеспечил себе центральную роль в самом амбициозном эксперименте Фюрера, направленном на очищение немецкого генофонда. Кроме того, новые заключенные должны были стать готовой рабочей силой для восстановления Рейха.
Характер и цель концентрационных лагерей теперь изменились бы. Параллельно с уменьшением числа немецких политических заключенных, на их месте оказались бы социальные отщепенцы. Среди арестованных - проституток, мелких преступников, бедняков - сначала было столько же женщин, сколько и мужчин.
Теперь создавалось новое поколение специально построенных концентрационных лагерей. И поскольку Моринген и другие женские тюрьмы уже тогда были переполнены и к тому же требовали затрат, Гиммлер предложил построить концентрационный лагерь для женщин. В 1938 году он созвал своих советников, чтобы обсудить возможное местоположение. Вероятно, друг Гиммлера группенфюрер Освальд Поль предложил построить новый лагерь в Мекленбургском озерном районе, рядом с деревней Равенсбрюк. Поль знал эту местность, потому что у него там был загородный дом.
Рудольф Хесс позже утверждал, будто предупреждал Гиммлера, что места будет недостаточно: количество женщин должно было увеличиться, особенно после начала войны. Другие отмечали, что земля была болотистой и постройка лагеря затянулась бы. Гиммлер отмел все возражения. Всего в 80 км от Берлина, местоположение было удобным для проверок, и он часто ездил туда в гости к Полю или к своему другу детства, известному хирургу и эсэсовцу Карлу Гебхардту, который заведовал медицинской клиникой Хохенлихен всего в 8 км от лагеря.
Гиммлер приказал как можно скорее перевести заключенных-мужчин из берлинского концентрационного лагеря Заксенхаузен на строительство Равенсбрюка. В это же время оставшиеся заключенные из мужского концентрационного лагеря в Лихтенбурге рядом с Торгау, который уже был полупустой, должны были быть переведены в лагерь Бухенвальд, открытый в июле 1937 года. Женщины, определенные в новый женский лагерь, во время постройки Равенсбрюка должны были содержаться в Лихтенбурге.
Находясь внутри зарешечённого вагона, Лина Хааг понятия не имела, куда направляется. После четырех лет в тюремной камере ей и многим другим сказали, что их «переправляют». Каждые несколько часов поезд останавливался на какой-нибудь станции, но их имена - Франкфурт, Штутгарт, Мангейм - не говорили ей ничего. Лина глядела на «обычных людей» на платформах - она годами не видела такой картины - а обычные люди глядели на «эти бледные фигуры с запавшими глазами и спутанными волосами». Ночью женщин снимали с поезда и передавали местным тюрьмам. Женщины-охранники вводили Лину в ужас: «Было невозможно себе представить, что перед лицом всех этих страданий они могли сплетничать и смеяться в коридорах. Большинство из них были добродетельными, но это был особый род благочестия. Казалось, они прятались за Богом, противясь своей собственной низости».