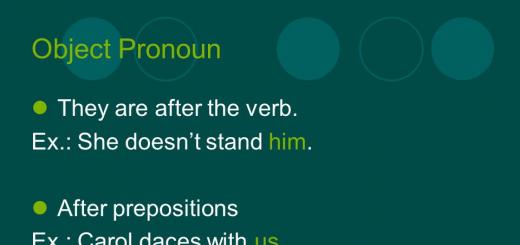Глава четвёртая
ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО
XVI.
Четвертый сон Веры Павловны
И снится Вере Павловне сон, будто:
Доносится до нее знакомый, - о, какой знакомый теперь! - голос издали, ближе, ближе, -
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glanzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Как мне природа
Блестит вокруг,
Как рдеет солнце,
Смеется луг!
(Перевод С.С. Заяицкого)}
И видит Вера Павловна, что это так, все так...
Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей вместе с ароматом; и за нивою, за лугом, за кустарником, лесом опять виднеются такие же сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники до дальних гор, покрытых лесом, озаренным солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь; взошло солнце, радуется и радует природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из груди - "о земля! о нега! о любовь! о любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами тех гор"
O Erd"! O Sonne!
O Gluck! O Lust!
O Lieb", o Liebe,
So goldenshon,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Hoh"n!
О мир, о солнце
О свет, о смех!
Любви, любови
О блеск златой,
Как горний облак
Над высью той!
(Перевод С.С. Заяицкого)}
Теперь ты знаешь меня? Ты знаешь, что я хороша? Но ты не знаешь; никто из вас еще не знает меня во всей моей красоте. Смотри, что было, что теперь, что будет. Слушай и смотри:
{* Как весело кубок бежит по рукам,
Как взоры пирующих ясны...
(Перевод С.П. Шевырева)}
У подошвы горы, на окраине леса, среди цветущих кустарников высоких густых аллей воздвигся дворец.
Идем туда.
Они идут, летят.
Роскошный пир. Пенится в стаканах вино; сияют глаза пирующих. Шум и шепот под шум, смех и, тайком, пожатие руки, и порою украдкой неслышный поцелуй. - "Песню! Песню! Без песни не полно веселие!" И встает поэт. Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песни рядом картин.
Звучат слова поэта, и возникает картина.
Но вот работа кончена, все идут к зданию. "Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать", - говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами, - столы уж накрыты, - сколько их! Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше: "здесь не все; кому угодно, обедают особо, у себя"; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это: "готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах, - это слишком легкая работа для других рук, - говорит старшая сестра, - ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого". Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. "А кто ж будет прислуживать?" - "Когда? во время стола? зачем? Ведь всего пять шесть блюд: те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут; видишь, в углублениях, - это ящики с кипятком, - говорит старшая сестра. - "Ты хорошо живешь, ты любишь хороший стол, часто у тебя бывает такой обед?" - "Несколько раз в год". У них это обыкновенный: кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть - расчет".
Неужели ж это мы? неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски. - "Да, ты видишь невдалеке реку, - это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!" - "И ты все это сделала?" - "Это все сделано для меня, и я одушевляла делать это, я одушевляю совершенствовать это, но делает это вот она, моя старшая сестра, она работница, а я только наслаждаюсь". - "И все так будут жить?" - "Все, - говорит старшая сестра, - для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но мы показали тебе только конец моей половины дня, работы, и начало ее половины; - мы еще посмотрим на них вечером, через два месяца".
Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. "Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, - говорит младшая сестра, - я так не хочу". - "Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, - говорит старшая сестра, - я это устроила по воле своей сестры царицы". - "Неужели дворец в самом деле опустел?" - "Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из 2 000 человек осталось теперь десять - двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему".
Но где ж они теперь? - "Да везде, где тепло и хорошо, - говорит старшая сестра: - на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на 7-8 плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, - кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется Новая Россия". - "Это где Одесса и Херсон?" - "Это в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия".
Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. "Эти горы были прежде голые скалы, - говорит старшая сестра. - Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис". - "Что ж это за земля?" - "Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы". На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. "Но мы в центре пустыни?" - говорит изумленная Вера Павловна. "Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она "кипит молоком и медом". Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною, бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. "Спустимся к одному из них", - говорит старшая сестра.
Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. "Они потому из алюминия, - говорит старшая сестра, - что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее". Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на, полверсты вокруг него растянут белый полог. "Он постоянно обрызгивается водою, - говорит старшая сестра: - видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят". - "А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?" - "Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю". - "Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?" - "Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, - почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время". - "Но кто хочет постоянно жить в них?" - "Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах, - кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромнейшее большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них".
Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось?" - "Что?" - "То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года". - "Как это сделалось? да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год, и не в десять лет, я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада, от прибережья большого моря, - у них так много таких сильных машин, - возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь все идут больше на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже не трудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, - разве это дурно?" "Нет". - "Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?" - "Нет, какие ж у нас были средства?" - "А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства". - "Так, так; я это знаю". - "Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты".
Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? - нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! - в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, - конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, - ну, да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. "И бывает, когда приезжают гости, - говорит светлая красавица, - бывает и больше". - "Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?" - "Конечно". - "А по-нынешнему, это был бы придворный бал, как роскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин - очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий, иматиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но особенно, какой хор!" - "Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше", - говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, - они уходят танцовать, они приходят из танцующих.
У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? - Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди, - это мимолетный час забытья нужды и горя - а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть - все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!
Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они - счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, - счастливцы, счастливцы!
Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина? "Где другие? - говорит светлая царица, - они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего - это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили - это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой - мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались - это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье Здесь царствую я".
"Я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд - заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье - приготовление ко мне, отдых после меня. Здесь я - цель жизни, здесь я - вся жизнь".
"В моей сестре, царице, высшее счастие жизни, - говорит старшая сестра, - но ты видишь, здесь всякое счастие, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому - полная воля, вольная воля".
"То, что мы показали тебе, нескоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести".
XVII
Через год новая мастерская уж совершенно устроилась, установилась. Обе мастерские были тесно связаны между собою, передавали одна другой заказы, когда одна была завалена ими, а другая имела время исполнить их. Между ними был текущий счет. Размер их средств был уже достаточен, чтобы они могли открыть магазин на Невском, если сблизятся между собою еще больше. Устроить это стоило довольно много хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя их компании были дружны, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись для поездок за город, но все-таки мысль о солидарности счетов двух разных предприятий была мысль новая, которую надобно было долго и много разъяснять. Однако же, выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев забот о слиянии двух счетоводств прихода в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска: "Au bon travail. Magasin des Nouveautes". С открытием магазина дела стали развиваться быстрее прежнего и становились все выгоднее. Мерцалова и Вера Павловна уже мечтали в своих разговорах, что года через два вместо двух швейных будет четыре, пять, а там скоро и десять, и двадцать.
Месяца через три по открытии магазина приехал к Кирсанову один отчасти знакомый, а больше незнакомый собрат его по медицине, много рассказывал о разных медицинских казусах, всего больше об удивительных успехах своей методы врачевания, состоявшей в том, чтобы класть вдоль по груди и по животу два узенькие и длинные мешочка, наполненные толченым льдом и завернутые каждый в четыре салфетки, а в заключение всего сказал, что один из его знакомых желает познакомиться с Кирсановым. Кирсанов исполнил желание; знакомство было приятное, был разговор о многом, между прочим, о магазине. Объяснил, что магазин открыт, собственно, с торговою целью; долго говорили о вывеске магазина, хорошо ли, что на вывеске написано travail. Кирсанов говорил, что travail значит труд, Au bon travail - магазин, хорошо исполняющий заказы; рассуждали о том, не лучше ли было бы заменить такой девиз фамилиею. Кирсанов стал говорить, что русская фамилия его жены наделает коммерческого убытка; наконец, придумал такое средство: его жену зовут "Вера" - по-французски вера - foi; если бы на вывеске можно было написать вместо Au bon travail - A la bonne foi, то не было ли бы достаточно этого? - Это бы имело самый невинный смысл - "добросовестный магазин", и имя хозяйки было бы на вывеске; рассудивши, увидели, что это можно. Кирсанов с особенным усердием обращал разговор на такие вопросы и вообще успевал в этом, так что возвратился домой очень довольный. Но во всяком случае Мерцалова и Вера Павловна значительно поурезали крылья своим мечтам и стали заботиться о том, чтобы хотя удержаться на месте, а уж не о том, чтоб идти вперед. Таким образом, по охлаждении лишнего жара в Вере Павловне и Мерцаловой, швейные и магазин продолжали существовать, не развиваясь, но радуясь уже и тому, что продолжают существовать. Новое знакомство Кирсанова продолжалось и приносило ему много удовольствия. Так прошло еще года два или больше, без всяких особенных происшествий.
XVIII
Письмо Катерины Васильевны Полозовой
С.-Петербург, 17 августа 1860 г.
Милая Полина, мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я
недавно узнала и которой теперь сама занимаюсь с большим усердием, что я
хочу описать ее тебе. Я уверена, что ты также заинтересуешься ею. Но
главное, ты сама, быть может, найдешь возможность заняться чем-нибудь
подобным. Это так приятно, мой друг.
Вещь, которую я хочу описать для тебя - швейная; собственно говоря, две швейные, обе устроенные по одному принципу женщиною, с которою познакомилась я всего только две недели тому назад, но уж успела очень подружиться. Я теперь помогаю ей, с тем условием, чтобы она потом помогла мне устроить еще такую же швейную. Эта дама Вера Павловна Кирсанова, еще молодая, добрая, веселая, совершенно в моем вкусе, то есть, больше похожа на тебя, Полина, чем на твою Катю, такую смирную: она бойкая и живая госпожа. Случайно услышав о ее мастерской, - мне сказывали только об одной, - я прямо приехала к ней без всяких рекомендаций и предлогов, просто сказала, что я заинтересовалась ее швейною. Мы сошлись с первого же раза, тем больше, что в Кирсанове, ее муже, я нашла того самого доктора Кирсанова, который пять лет тому назад оказал мне, помнишь, такую важную услугу.
Поговоривши со мною с полчаса и увидев, что я, действительно, сочувствую таким вещам, Вера Павловна повела меня в свою мастерскую, ту, которою она сама занимается (другую, которая была устроена прежде, взяла на себя одна из ее близких знакомых, тоже очень хорошая молодая дама), и я перескажу тебе впечатления моего первого посещения; они были так новы и поразительны, что я тогда же внесла их в свой дневник, который был давно брошен, но теперь возобновился по особенному обстоятельству, о котором, быть может, я расскажу тебе через несколько времени. Я очень довольна, что эти впечатления были тогда записаны мною: теперь я и забыла бы упомянуть о многом, что поразило меня тогда, а нынче, только через две недели, уже кажется самым обыкновенным делом, которое иначе и не должно быть. Но чем обыкновеннее становится эта вещь, тем больше я привязываюсь к ней, потому что она очень хороша. Итак, Полина, я начинаю выписку из моего дневника, дополняя подробностями, которые узнала после.
Швейная мастерская, - что же такое увидела я, как ты думаешь? Мы остановились у подъезда, Вера Павловна повела меня по очень хорошей лестнице, знаешь, одной из тех лестниц, на которых нередко встречаются швейцары. Мы вошли на третий этаж, Вера Павловна позвонила, и я увидела себя в большом зале, с роялем, с порядочною мебелью, - словом, зал имел такой вид, как будто мы вошли в квартиру семейства, проживающего 4 или 5 тысяч рублей в год. - Это мастерская? И это одна из комнат, занимаемых швеями? "Да; это приемная комната и зал для вечерних собраний; пойдемте по тем комнатам, в которых, собственно, живут швеи, они теперь в рабочих комнатах, и мы никому не помешаем". - Вот что увидела я, обходя комнаты, и что пояснила мне Вера Павловна.
Помещение мастерской составилось из трех квартир, выходящих на одну площадку и обратившихся в одну квартиру, когда пробили двери из одной в другую. Квартиры эти прежде отдавались за 700, 550 и 425 руб. в год, всего за 1675 руб. Но отдавая все вместе по контракту на 5 лет, хозяин дома согласился уступить их за 1 250 руб. Всего в мастерской 21 комната, из них 2 очень большие, по 4 окна, одна служит приемною, другая - столовою; в двух других, тоже очень больших, работают; в остальных живут. Мы прошли 6 или 7 комнат, в которых живут девушки (я все говорю про первое мое посещение); меблировка этих комнат тоже очень порядочная, красного дерева или ореховая; в некоторых есть стоячие зеркала, в других - очень хорошие трюмо; много кресел, диванов хорошей работы. Мебель в разных комнатам разная, почти вся она постепенно покупалась по случаям, за дешевую цену. Эти комнаты, в которых живут, имеют такой вид, как в квартирах чиновничьих семейств средней руки, в семействах старых начальников отделения или молодых столоначальников, которые скоро будут начальниками отделения. В комнатах, которые побольше, живут три девушки, в одной даже четыре, в других по две.
Мы вошли в рабочие комнаты, и девушки, занимавшиеся в них, тоже показались мне одеты как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников: на одних были шелковые платья, из простеньких шелковых материй, на других барежевые, кисейные. Лица имели ту мягкость и нежность, которая развивается только от жизни в довольстве. Ты можешь представить, как это все удивляло меня. В рабочих комнатах мы оставались долго. Я тут же познакомилась с некоторыми из девушек; Вера Павловна сказала цель моего посещения: степень их развития была неодинакова; одни говорили уже совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературою, как наши барышни, имели порядочные понятия и об истории, и о чужих землях, и обо всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе; две были даже очень начитаны. Другие, не так давно поступившие в мастерскую, были менее развиты, но все-таки с каждою из них можно было говорить, как с девушкою, уже имеющею некоторое образование. Вообще степень развития соразмерна тому, как давно которая из них живет в мастерской.
Вера Павловна занималась делами, иногда подходила ко мне, а я говорила с девушками, и таким образом мы дождались обеда. Он состоит, по будням, из трех блюд. В тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина. После обеда на столе явились чай и кофе. Обед был настолько хорош, что я поела со вкусом и не почла бы большим лишением жить на таком обеде.
А ты знаешь, что мой отец и теперь имеет хорошего повара.
Вот какое было общее впечатление моего первого посещения. Мне сказали, и я знала, что я буду в мастерской, в которой живут швеи, что мне покажут комнаты швей; что я буду видеть швей, что я буду сидеть за обедом швей; вместо того я видела квартиры людей не бедного состояния, соединенные в одно помещение, видела девушек среднего чиновничьего или бедного помещичьего круга, была за обедом, небогатым, но удовлетворительным для меня; - что ж это такое? и как же это возможно?
Когда мы возвратились к Вере Павловне, она и ее муж объяснили мне, что это вовсе не удивительно. Между прочим, Кирсанов тогда написал мне для примера небольшой расчет на лоскутке бумаги, который уцелел между страниц моего дневника. Я перепишу тебе его; но прежде еще несколько слов.
Вместо бедности - довольство; вместо грязи - не только чистота, даже некоторая роскошь комнат; вместо грубости - порядочная образованность; все это происходит от двух причин: с одной стороны, увеличивается доход швей, с другой - достигается очень большая экономия в их расходах.
Ты понимаешь, отчего они получают больше дохода: они работают на свой собственный счет, они сами хозяйки; потому они получают ту долю, которая оставалась бы в прибыли у хозяйки магазина. Но это не все: работая в свою собственную пользу и на свой счет, они гораздо бережливее и на материал работы и на время: работа идет быстрее, и расходов на нее меньше.
Понятно, что и в расходах на их жизнь много сбережений. Они покупают все большими количествами, расплачиваются наличными деньгами, поэтому вещи достаются им дешевле, чем при покупке в долг и по мелочи; вещи выбираются внимательно, с знанием толку в них, со справками, поэтому все покупается не только дешевле, но и лучше, нежели вообще приходится покупать бедным людям.
Кроме того, многие расходы или чрезвычайно уменьшаются, или становятся вовсе не нужны. Подумай, например: каждый день ходить в магазин за 2, за 3 версты - сколько изнашивается лишней обуви, лишнего платья от этого. Приведу тебе самый мелочной пример, но который применяется ко всему в этом отношении.
Если не иметь дождевого зонтика, это значит много терять от порчи платья дождем. Теперь, слушай слова, сказанные мне Верой Павловною. Простой холщовый зонтик стоит, положим, 2 рубля. В мастерской живет 25 швей. На зонтик для каждой вышло бы 50 р., та, которая не имела бы зонтика, терпела бы потери в платье больше, чем на 2 руб. Но они живут вместе; каждая выходит из дому только, когда ей удобно; поэтому не бывает того, чтобы в дурную погоду многие выходили из дому. Они нашли, что 5 дождевых зонтиков совершенно довольно. Эти зонтики шелковые, хорошие; они стоят по 5 руб. Всего расхода на дождевые зонтики - 25 руб., или у каждой швеи - по 1 руб. Ты видишь, что каждая из них пользуется хорошею вещью вместо дрянной и все-таки имеет вдвое меньше расхода на эту вещь. Так с множеством мелочей, которые вместе составляют большую важность. То же с квартирою, со столом. Например, этот обед, который я тебе описала, обошелся в 5 руб. 50 коп. или 5 руб. 75 коп., с хлебом (но без чаю и кофе). А за столом было 37 человек (не считая меня, гостьи, и Веры Павловны), правда, в том числе нескольких детей. 5 руб. 75 коп. на 37 человек это составляет менее 16 коп. на человека, менее 5 р. в месяц. А Вера Павловна говорит, что если человек обедает один, он на эти деньги не может иметь почти ничего, кроме хлеба и той дряни, которая продается в мелочных лавочках. В кухмистерской такой обед (только менее чисто приготовленный) стоит, по словам Веры Павловны, 40 коп. сер., - за 30 коп. гораздо хуже. Понятна эта разница: кухмистер, готовя обед на 20 человек или меньше, должен сам содержаться из этих денег, иметь квартиру, иметь прислугу. Здесь этих лишних расходов почти вовсе нет, или они гораздо меньше. Жалованье двум старушкам, родственницам двух швей, вот и весь расход по содержанию их кухонного штата. Теперь тебе понятен будет расчет, который сделал мне для примера Кирсанов, когда я была у них в первый раз. Написавши его, он сказал мне:
Конечно, я не могу сказать вам точных цифр, да и трудно было бы найти их, потому что, вы знаете, у каждого коммерческого дела, у каждого магазина, каждой мастерской свои собственные пропорции между разными статьями дохода и расхода, в каждом семействе также свои особенные степени экономности в делании расходов и особенные пропорции между разными статьями их. Я ставлю цифры только для примера: но чтобы счет был убедительнее, я ставлю цифры, которые менее действительной выгодности нашего порядка, сравнительно с настоящими расходами почти всякого коммерческого дела и почти всякого мелкого, бедного хозяйства.
Доход коммерческого предприятия от продажи товаров, - продолжал Кирсанов, - распадается на три главные части: одна идет на жалованье рабочим; другая - на остальные расходы предприятия: наем помещения, освещение, материалы для работы; третья остается в прибыль хозяину. Положим, выручка разделяется между этими частями так: на жалованье рабочим - половина выручки, на другие расходы - четвертая часть; остальная четверть - прибыль. Это значит, что если рабочие получают 100 руб., то на другие расходы идет 50 руб., у хозяина остается также 50. Посмотрим, сколько получают рабочие при нашем порядке, - Кирсанов стал читать свой билетик с цифрами.
Они получают свою плату... . 100 р.
Они сами хозяева, потому получают
и хозяйскую прибыль...................50 р.
У них рабочие комнаты помещаются
при их квартире, поэтому обходятся
дешевле особой мастерской: они
бережливы на материал; в этом очень
большая пропорция сбережения, я
думаю наполовину, но мы положим
только на третью долю; из 50 руб.,
которые шли бы на эти расходы, они
сберегают в прибыль себе еще....... 16 р. 67 к
__________
166 р. 67 к
Вот мы уж набрали, - продолжал Кирсанов: - что наши рабочие получают 166 р. 67 к., когда при другом порядке они имеют только 100 р. Но они получают еще больше: работая в свою пользу, они трудятся усерднее, потому успешнее, быстрее; положим, когда, при обыкновенном плохом усердии, они успели бы сделать 5 вещей, в нашем примере 5 платьев, они теперь успевают сделать 6, - эта пропорция слишком мала, но положим ее; значит, в то время когда другое предприятие зарабатывает 5 руб., наше зарабатывает 6 руб.
От быстроты и усердной работы
выручка и доход увеличиваются на
одну пятую долю: от 166 руб. 67 коп.
пятая доля 33 р. 33 коп. - и так,
еще............................... 33 р. 33 к.
с прежним...................... 166 р. 67 к.
____________
200 р.
Поэтому у наших вдвое больше дохода, чем у других, - продолжал Кирсанов. - Теперь, как употребляется этот доход. Имея вдвое выгоднее. Тут выгода двойная, как вы знаете: во-первых, оттого, что все покупается оптом; положим, от этого выигрывается третья доля,вещи, которые при мелочной покупке и долгах обошлись бы в З р., обходятся в 2 руб. На самом деле, выгода больше: возьмем в пример квартиру; если б эти комнаты отдавать в наем углами, тут жило бы: в 17 комнатах с 2 окнами по 3 и по 4 человека, - всего, положим, 55 человек; в 2 комнатах с 3 окнами по б человек и в 2 с 4 окнами по 9 человек, 12 и 18, всего 30 человек, и 55 в маленьких комнатах, - в целой квартире 85 человек; каждый платил бы по З р. 50 к. в месяц, это значит 42 р. в год; итак, мелкие хозяева, промышляющие отдачею углов внаймы, берут за такое помещение - 42 руб, на 85, - 3 570 руб. Наши имеют эту квартиру за 1 250 рублей, почти втрое дешевле. Так в очень многом, почти так, почти во всем. Вероятно, я еще не дошел бы до истинной пропорции, если бы положил сбережение наполовину; но я положу его тоже только в третью долю. Это еще не все. При таком устройстве жизни они не имеют нужды делать многих расходов, или нужно гораздо меньшее количество вещей, - Верочка приводила вам пример обувь, платье. Положим, что от этого количество покупаемых вещей сокращается на одну четвертую долю, вместо 4 пар башмаков достаточно 3, или З платья носятся столько времени, как носились бы 4, - эта пропорция опять слишком мала. Но посмотрите, что выходит из этих пропорций.
Дешевизна покупки делает, что
вещи достаются на одну третью долю
сходнее - то есть, положим за три
вещи платится вместо 3 руб. только 2
руб.; но при нашем порядке этими 3
вещами удовлетворяется столько
надобностей, сколько при другом
удовлетворялось бы не менее как 4
вещами; это значит, что за свои 200
руб. наши швеи имеют столько вещей,
сколько при другом порядке имели бы
не менее, как за 300 руб., и что эти
вещи при нашем порядке доставляют их
жизни столько удобств, сколько при
другом доставлялось бы суммою не
меньше, как......................... 400 р.
Сравните жизнь семейства, расходующего 1 000 руб. в год, с жизнью такого же семейства, расходующего 4 000 руб., не правда ли, вы найдете громадную разницу? - продолжал Кирсанов. - При нашем порядке точно такая же пропорция, если не больше: при нем получается вдвое больше дохода, и доход употребляется вдвое выгоднее. Удивительно ли, что вы нашли жизнь наших швей вовсе непохожею на ту, какую ведут швеи при обыкновенном порядке?
Вот какое чудо я увидела, друг мой Полина, и вот как просто оно
объясняется. И я теперь так привыкла к нему, что мне уж кажется странно: как
же я тогда удивлялась ему, как же не ожидала, что найду все именно таким,
каким нашла. Напиши, имеешь ли ты возможность заняться тем, к чему я теперь
готовлюсь: устройством швейной или другой мастерской по этому порядку. Это
так приятно, Полина.
Твоя К. Полозова.
P.S. Я совсем забыла говорить о другой мастерской, - но уж так и быть, в другой раз. Теперь скажу только, что старшая швейная развилась больше и потому во всех отношениях выше той, которую я тебе описывала. В подробностях устройства между ними много разницы, потому что все применяется к обстоятельствам.
И вот Вера Павловна засыпает, и снится Вере Павловне сон. Поле, и по полю ходят муж, то есть миленький, и Алексей Петрович, и миленький говорит: — Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, чистая и нежная, а из другой грязи не родится? Эту разницу вы сами сейчас увидите. Посмотрите корень этого прекрасного колоса: около корня грязь, но эта грязь свежая, можно сказать, чистая грязь; слышите запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся. Вы знаете, что на языке философии, которой мы с вами держимся, эта чистая грязь называется реальная грязь. Она грязна, это правда; но всмотритесь в нее хорошенько, вы увидите, что все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного переменится расположение атомов, и выйдет что-нибудь другое; и все другое, что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы. Откуда же здоровое свойство этой грязи? обратите внимание на положение этой поляны: вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому здесь не может быть гнилости. — Да, движение есть реальность, — говорит Алексей Петрович, — потому что движение — это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. Но жизнь имеет главным своим элементом труд, а потому главный элемент реальности — труд, и самый верный признак реальности — дельность. — Так видите, Алексей Петрович, когда солнце станет согревать эту грязь и теплота станет перемещать ее элементы в более сложные химические сочетания, то есть в сочетания высших форм, колос, который вырастает из этой грязи от солнечного света, будет здоровый колос. — Да, потому что это грязь реальной жизни, — говорит Алексей Петрович. — Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение, также рассматриваем его корень. Он также загрязнен. Обратите внимание на характер этой грязи. Нетрудно заметить, что это грязь гнилая. — То есть фантастическая грязь, по научной терминологии, — говорит Алексей Петрович. — Так; элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии. Натурально, что, как бы они ни перемещались и какие бы другие вещи, непохожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут нездоровые, дрянные. — Да, потому что самые элементы нездоровы, — говорит Алексей Петрович. — Нам нетрудно будет открыть причину этого нездоровья... — То есть этой фантастической гнилости, — говорит Алексей Петрович. — Да, гнилости этих элементов, если мы обратим внимание на положение этой поляны. Вы видите, вода не имеет стока из нее, потому застаивается, гниет. — Да, отсутствие движения есть отсутствие труда, — говорит Алексей Петрович, — потому что труд представляется в антропологическом анализе коренною формою движения, дающею основание и содержание всем другим формам: развлечению, отдыху, забаве, веселью; они без предшествующего труда не имеют реальности. А без движения нет жизни, то есть реальности, потому это грязь фантастическая, то есть гнилая. До недавнего времени не знали, как возвращать здоровье таким полянам; но теперь открыто средство; это — дренаж: лишняя вода сбегает по канавам, остается воды сколько нужно, и она движется, и поляна получает реальность. Но пока это средство не применено, эта грязь остается фантастическою, то есть гнилою, а на ней не может быть хорошей растительности; между тем как очень натурально, что на грязи реальной являются хорошие растения, так как она грязь здоровая. Что и требовалось доказать: o-e-a-a-dum, как говорится по-латине. Как говорится по-латине «что и требовалось доказать», Вера Павловна не может расслушать. — А у вас, Алексей Петрович, есть охота забавляться кухонною латинью и силлогистикою, — говорит миленький, то есть муж. Вера Павловна подходит к ним и говорит: — Да полноте вам толковать о своих анализах, тожествах и антропологизмах, пожалуйста, господа, что-нибудь другое, чтоб и я могла участвовать в разговоре, или лучше давайте играть. — Давайте играть, — говорит Алексей Петрович, — давайте исповедоваться. — Давайте, давайте, это будет очень весело, — говорит Вера Павловна, — но вы подали мысль, вы покажите и пример исполнения. — С удовольствием, сестра моя, — говорит Алексей Петрович, — но вам сколько лет, милая сестра моя, осьмнадцать? — Скоро будет девятнадцать. — Но еще нет; потому положим осьмнадцать, и будем все исповедоваться до осьмнадцати лет, потому что нужно равенство условий. Я буду исповедоваться за себя и за жену. Мой отец был дьячок в губернском городе и занимался переплетным мастерством, а мать пускала на квартиру семинаристов. С утра до ночи отец и мать все хлопотали и толковали о куске хлеба. Отец выпивал, но только когда приходилась нужда невтерпеж, — это реальное горе, или когда доход был порядочный; тут он отдавал матери все деньги и говорил: «Ну, матушка, теперь, слава богу, на два месяца нужды не увидишь; а я себе полтинничек оставил, на радости выпью» — это реальная радость. Моя мать часто сердилась, иногда бивала меня, но тогда, когда у нее, как она говорила, отнималась поясница от тасканья корчаг и чугунов, от мытья белья на нас пятерых и на пять человек семинаристов, и мытья полов, загрязненных нашими двадцатью ногами, не носившими калош, и ухода за коровой; это — реальное раздражение нерв чрезмерною работою без отдыха: и когда, при всем этом, «концы не сходились», как она говорила, то есть не хватало денег на покупку сапог кому-нибудь из нас, братьев, или на башмаки сестрам, — тогда она бивала нас. Она и ласкала нас, когда мы, хоть глупенькие дети, сами вызывались помогать ей в работе, или когда мы делали что-нибудь другое умное, или когда выдавалась ей редкая минута отдохнуть, и ее «поясницу отпускало», как она говорила, — это все реальные радости... — Ах, довольно ваших реальных горестей и радостей, — говорит Вера Павловна. — В таком случае извольте слушать исповедь за Наташу. — Не хочу слушать: в ней такие же реальные горести и радости — знаю. — Совершенная правда. — Но, быть может, вам интересно будет выслушать мою исповедь, — говорит Серж, неизвестно откуда взявшийся. — Посмотрим, — говорит Вера Павловна. — Мой отец и мать, хотя были люди богатые, тоже вечно хлопотали и толковали о деньгах; и богатые люди не свободны от таких же забот... — Вы не умеете исповедоваться, Серж, — любезно говорит Алексей Петрович, — вы скажите, почему они хлопотали о деньгах, какие расходы их беспокоили, каким потребностям затруднялись они удовлетворять? — Да, конечно, я понимаю, к чему вы спрашиваете, — говорит Серж, — но оставим этот предмет, обратимся к другой стороне их мыслей. Они также заботились о детях. — А кусок хлеба был обеспечен их детям? — спрашивает Алексей Петрович. — Конечно; но должно было позаботиться о том, чтобы... — Не исповедуйтесь, Серж! — говорит Алексей Петрович, — мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном — вот почва, на которой вы выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны? — Пригоден на то, чтобы провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить, — отвечает Серж. — Из этого мы видим, — говорит Алексей Петрович, — что фантастическая или нездоровая почва... — Ах, как вы надоели с вашею реальностью и фантастичностью! Давно понятно, а они продолжают толковать! — говорит Вера Павловна. — Так не хочешь ли потолковать со мною? — говорит Марья Алексевна, тоже неизвестно откуда взявшаяся. — Вы, господа, удалитесь, потому что мать хочет говорить с дочерью. Все исчезают. Верочка видит себя наедине с Марьей Алексевною. Лицо Марьи Алексевны принимает насмешливое выражение. — Вера Павловна, вы образованная дама, вы такая чистая и благородная, — говорит Марья Алексевна, и голос ее дрожит от злобы, — вы такая добрая... как же мне, грубой и злой пьянице, разговаривать с вами? У вас, Вера Павловна, злая и дурная мать; а позвольте вас спросить, сударыня, о чем эта мать заботилась? о куске хлеба; это, по-вашему, по-ученому, реальная, истинная, человеческая забота, не правда ли? Вы слышали ругательства, вы видели дурные дела и низости; а позвольте вас спросить, какую цель они имели? пустую, вздорную? Нет, сударыня. Нет, сударыня, какова бы ни была жизнь вашего семейства, но это была не пустая, фантастическая жизнь. Видите, Вера Павловна, я выучилась говорить по-вашему, по-ученому. Но вам, Вера Павловна, прискорбно и стыдно, что ваша мать дурная и злая женщина? Вам угодно, Вера Павловна, чтоб я была доброю и честною женщиною? Я ведьма, Вера Павловна, я умею колдовать, я могу исполнить ваше желание. Извольте смотреть, Вера Павловна, ваше желание исполняется: я, злая, исчезаю; смотрите на добрую мать и ее дочь. Комната. У порога храпит пьяный, небритый, гадкий мужчина. Кто — это нельзя узнать, лицо наполовину закрыто рукою, наполовину покрыто синяками. Кровать. На кровати женщина, — да, это Марья Алексевна, только добрая! зато какая она бледная, дряхлая в свои сорок пять лет, какая изнуренная! У кровати девушка лет восемнадцати, да это я сама, Верочка; только какая же я образованная? Да что это? у меня и цвет лица какой-то желтый, да и черты грубее, да и комната какая бедная! Мебели почти нет. «Верочка, друг мой, ангел мой, — говорит Марья Алексевна, — приляг, отдохни, сокровище, ну что на меня смотреть, я и так полежу. Ведь ты третью ночь не спишь». — Ничего, маменька, я не устала, — говорит Верочка. — А мне все не лучше, Верочка; как-то ты без меня останешься? У отца жалованьишко маленькое, и сам-то он плохая тебе опора. Ты девушка красивая; злых людей на свете много. Предостеречь тебя будет некому. Боюсь я за тебя. — Верочка плачет. — Милая моя, ты не огорчись, я тебе не в укор это скажу, а в предостереженье: ты зачем в пятницу из дому уходила, за день перед тем, как я разнемоглась? — Верочка плачет. — Он тебя обманет, Верочка, брось ты его. — Нет, маменька. Два месяца. Как это, в одну минуту, прошли два месяца? Сидит офицер. На столе перед офицером бутылка. На коленях у офицера она, Верочка. Еще два месяца прошли в одну минуту. Сидит барыня. Перед барынею стоит она, Верочка. — А гладить умеешь, милая? — Умею. — А из каких ты, милая? крепостная или вольная? — У меня отец чиновник. — Так из благородных, милая? Так я тебя нанять не могу. Какая же ты будешь слуга? Ступай, моя милая, не могу. Верочка на улице. — Мамзель, а мамзель, — говорит какой-то пьяноватый юноша, — вы куда идете? Я вас провожу. — Верочка бежит к Неве. — Что, моя милая, насмотрелась, какая ты у доброй-то матери была? — говорит прежняя, настоящая Марья Алексевна. — Хорошо я колдовать умею? Аль не угадала? Что молчишь? Язык-то есть? Да я из тебя слова-то выжму: вишь ты, нейдут с языка-то! По магазинам ходила? — Ходила, — отвечает Верочка, а сама дрожит. — Видала? Слыхала? — Да. — Хорошо им жить? Ученые они? Книжки читают, об новых ваших порядках думают, как бы людям добро делать? Думают, что ли? — говори! Верочка молчит, а сама дрожит. — Эк из тебя и слова-то нейдут. Хорошо им жить? — спрашиваю. Верочка молчит, а сама холодеет. — Нейдут из тебя слова-то. Хорошо им жить? — спрашиваю; хороши они? — спрашиваю; такой хотела бы быть, как они? — Молчишь! рыло-то воротишь! — Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая — на мои воровские деньги учена. Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что такое добром называется. Понимаешь? Все от меня, моя ты дочь, понимаешь? Я тебе мать. Верочка и плачет, и дрожит, и холодеет. — Маменька, чего вы от меня хотите? Я не могу любить вас. — А я разве прошу: полюби? — Мне хотелось бы, по крайней мере, уважать вас; но я и этого не могу. — А я нуждаюсь в твоем уважении? — Что же вам нужно, маменька? Зачем вы пришли ко мне так страшно говорить со мною? Чего вы хотите от меня? — Будь признательна, неблагодарная. Не люби, не уважай. Я злая: что меня любить? Я дурная: что меня уважать? Но ты пойми, Верка, что кабы я не такая была, и ты бы не такая была. Хорошая ты — от меня дурной; добрая ты — от меня злой. Пойми, Верка, благодарна будь. — Уйдите, Марья Алексевна, теперь я поговорю с сестрицею. Марья Алексевна исчезает. Невеста своих женихов, сестра своих сестер берет Верочку за руку. — Верочка, я хотела всегда быть доброй с тобой, ведь ты добрая, а я такова, каков сам человек, с которым я говорю. Но ты теперь грустная, — видишь, и я грустная; посмотри, хороша ли я грустная? — Все-таки лучше всех на свете. — Поцелуй меня, Верочка, мы вместе огорчены. Ведь твоя мать говорила правду. Я не люблю твою мать, но она мне нужна. — Разве без нее нельзя вам? — После будет можно, когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь нельзя. Видишь, добрые не могут сами стать на ноги, злые сильны, злые хитры. Но видишь, Верочка, злые бывают разные: одним нужно, чтобы на свете становилось хуже, другим, тоже злым, чтобы становилось лучше: так нужно для их пользы. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная: ведь она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки; ведь она хотела, чтоб ее дочь поймала богатого зятя ей, а для этого ей было нужно, чтобы ты была образованная. Видишь, у нее были дурные мысли, но из них выходила польза человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так. Если бы твоя мать была Анна Петровна, разве ты училась бы так, чтобы ты стала образованная, узнала добро, полюбила его? Нет, тебя бы не допустили узнать что-нибудь хорошее, тебя бы сделали куклой, — так? Такой матери нужна дочь-кукла, потому что она сама кукла и все играет с куклами в куклы. А твоя мать человек дурной, но все-таки человек, ей было нужно, чтобы ты не была куклой. Видишь, как злые бывают разные? Одни мешают мне: ведь я хочу, чтобы люди стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают мне, — они не хотят помогать мне, но дают простор людям становиться людьми, они собирают средства людям становиться людьми. А мне только этого и нужно. Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых. Мои злые — злы, но под их злою рукою растет добро. Да, Верочка, будь признательна к своей матери. Не люби ее, она злая, но ты ей всем обязана, знай это: без нее не было бы тебя. — И всегда так будет? Нет, так не будет? — Да, Верочка, после так не будет. Когда добрые будут сильны, мне не нужны будут злые. Это скоро будет, Верочка. Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми; и те злые, которые были людьми, станут добрыми: ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми, а ведь они знают, что добро лучше зла, они полюбят его, когда можно будет любить его без вреда. — А те злые, которые были куклами, что с ними будет? Мне и их жаль. — Они будут играть в другие куклы, только уж в безвредные куклы. Но ведь у них не будет таких детей, как они: ведь у меня все люди будут людьми; и их детей я выучу быть не куклами, а людьми. — Ах, как это будет хорошо! — Да, но и теперь хорошо, потому что готовится это хорошее; по крайней мере, тем и теперь очень хорошо, кто готовит его. Когда ты, Верочка, помогаешь кухарке готовить обед, ведь в кухне душно, чадно, а ведь тебе хорошо, нужды нет, что душно и чадно? Всем хорошо сидеть за обедом, но лучше всех тому, кто помогал готовить его: тому он вдвое вкуснее. А ты любишь сладко покушать, Верочка, правда? — Правда, — говорит Верочка и улыбается, что уличена в любви к сладким печеньям и в хлопотах над ними в кухне. — Так о чем же грустить? Да ты уж и не грустишь. — Какая вы добрая! — И веселая, Верочка, я всегда веселая, и когда грустная, все-таки веселая. Правда? — Да, когда мне грустно, вы придете тоже как будто грустная, а всегда сейчас прогоните грусть; с вами весело, очень весело. — А помнишь мою песенку: donc vivons? — Помню. — Давай же петь. — Давайте. — Верочка! Да я разбудил тебя? Впрочем, уж чай готов. Я было испугался: слышу, ты стонешь, вошел, ты уже поешь. — Нет, мой миленький, не разбудил, я сама бы проснулась. А какой я сон видела, миленький, я тебе расскажу за чаем. Ступай, я оденусь. А как вы смели войти в мою комнату без дозволения, Дмитрий Сергеич? Вы забываетесь. Испугался за меня, мой миленький? подойди, я тебя поцелую за это. Поцеловала; ступай же, ступай, мне надо одеваться. — Да уж так и быть, давай я тебе прислужу вместо горничной. — Ну, пожалуй, миленький; только как это стыдно!потрясающее впечатление в населении 5-й линии между Средним и Малым
проспектами, где ничего подобного не было видано, по крайней мере, со времен
Петра великого, если не раньше. Много глаз смотрели, как дивный феномен
остановился у запертых ворот одноэтажного деревянного домика в 7 окон, как
из удивительной кареты явился новый, еще удивительнейший феномен,
великолепная дама с блестящим офицером, важное достоинство которого не
подлежало сомнению. Всеобщее огорчение было произведено тем, что через
минуту ворота отперлись и карета въехала на двор: любознательность лишилась
надежды видеть величественного офицера и еще величественнейшую даму вторично
при их отъезде. Когда Данилыч возвратился домой с торговли, у Петровны с ним
произошел разговор.
Петрович, а видно жильцы-то наши из важных людей. Приезжали к ним
генерал с генеральшею. Генеральша так одета, что и рассказать нельзя, а на
генерале две звезды.
Каким образом Петровна видела звезды на Серже, который еще и не имел
их, да если б и имел, то, вероятно, не носил бы при поездках на службе Жюли,
это вещь изумительная; но что действительно она видела их, что не ошиблась и
не хвастала, это не она свидетельствует, это я за нее также ручаюсь: она
видела их. Это мы знаем, что на нем их не было; но у него был такой вид, что
с точки зрения Петровны нельзя было не увидать на нем двух звезд, - она и
увидела их; не шутя я вам говорю: увидела.
И на лакее ливрея какая, Данилыч: сукно английское, по 5 рублей
аршин; он суровый такой, важный, но учтив, отвечает; давал и пробовать на
рукаве, отличное сукно. Видно, что денег-то куры не клюют. И сидели они у
наших, Данилыч, часа два, и наши с ними говорят просто, вот как я с тобою, и
не кланяются им, и смеются с ними; и наш-то сидит с генералом, оба
развалившись, в креслах-то, и курят, и наш курит при генерале, и развалился;
да чего? - папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил
свою-то. А уж с каким почтением генерал ручку поцеловал у нашей-то, и
рассказать нельзя. Как же теперь это дело рассудить, Данилыч?
Все от бога, я так рассуждаю; значит, и знакомство али родство какое,
От бога.
Так, Данилыч, от бога, слова нет; а я и так думаю, что либо наш, либо
наша приходятся либо братом, либо сестрой либо генералу, либо генеральше. И
признаться, я больше на нее думаю, что она генералу сестра.
Как же это будет по-твоему, Петровна? Не похоже что-то. Как бы так, у
них бы деньги были.
А так, Данилыч, что мать не в браке родила, либо отец не в браке
родил. Потому лицо другое: подобия-то, точно, нет.
Это может статься, Петровна, что не в браке. Бывает.
Петровна на четыре целые дня приобрела большую важность в своей
мелочной лавочке. Эта лавочка целые три дня отвлекала часть публики из той,
которая наискось. Петровна для интересов просвещения даже несколько
пренебрегла в эти дни своим штопаньем, утоляя жажду жаждущих знания.
Следствием всего этого было, что через неделю явился к дочери и зятю
Павел Константиныч.
Марья Алексевна собирала сведения о жизни дочери и разбойника, - не то
чтобы постоянно и заботливо, а так, вообще, тоже больше из чисто научного
инстинкта любознательности. Одной из мелких ее кумушек, жившей на
Васильевском, было поручено справляться о Вере Павловне, когда случится идти
мимо, и кумушка доставляла ей сведения, иногда раз в месяц, иногда и чаще,
как случится. Лопуховы живут между собою в ладу. Дебоша никакого нет. Одно
только: молодых людей много бывает, да все мужнины приятели, и скромные.
Живут небогато; но видно, что деньги есть. Не то что продавать, а покупают.
Сшила себе два шелковых платья. Купили два дивана, стол к дивану, полдюжины
кресел, по случаю; заплатили 40 руб., а мебель хорошая, рублей сто надо
дать. Сказывали хозяевам, чтоб искали новых жильцов: мы, говорит, через
месяц на свою квартиру съедем, а вами, значит хозяевами-то, очень благодарны
за расположение; ну, и хозяева: и мы, говорят, вами тоже.
Марья Алексевна утешалась этими слухами. Женщина очень грубая и очень
дурная, она мучила дочь, готова была и убить, и погубить ее для своей
выгоды, и проклинала ее, потерпев через нее расстройство своего плана
обогатиться - это так; но следует ли из этого, что она не имела к дочери
никакой любви? Нисколько не следует. Когда дело было кончено, когда дочь
безвозвратно вырвалась из ее рук, что ж было делать? Что с возу упало, то
пропало. А все-таки дочь; и теперь, когда уже не представлялось никакого
случая, чтобы какой-нибудь вред Веры Павловны мог служить для выгоды Марье
Алексевне, мать искренно желала дочери добра. И опять не то, чтобы желала,
уж бог знает как, но это все равно: по крайней мере она все-таки не бог
знает с какою внимательностью шпионила за нею. Меры для слежения за дочерью
были приняты только так, между прочим, потому что, согласитесь, нельзя же не
следить; ну, и желанье добра было тоже между прочим, потому что,
согласитесь, все-таки дочь. Почему же и не помириться? Тем больше, что
разбойник-зять, изо всего видно, человек основательный, может быть, и
пригодится современем. Таким образом, Марья Алексевна шла понемногу к мысли
возобновить сношения с дочерью. Понадобилось бы еще с полгода, пожалуй, с
год, чтобы доплестись до этого: не было нужды торопиться, время терпит. Но
известие о генерале с генеральшею разом двинуло историю вперед на всю
остававшуюся половину пути. Разбойник действительно оказывался шельмецом.
Отставной студентишка без чина, с двумя грошами денег, вошел в дружбу с
молодым, стало быть, уж очень важным, богатым генералом и подружил свою жену
с его женою: такой человек далеко пойдет. Или это Вера подружилась с
генеральшею и мужа подружила с генералом? все равно, значит Вера далеко
Итак, немедленно по получении сведения о визите отправлен был отец
объявить дочери, что мать простила ее и зовет к себе. Вера Павловна и муж
отправились с Павлом Константинычем и просидели начало вечера. Свидание было
холодно и натянуто. Говорили больше всего о Феде, потому что это предмет не
щекотливый. Он ходил в гимназию; уговорили Марью Алексевну отдать его в
пансион гимназии, - Дмитрий Сергеич будет там навещать его, а по праздникам
Вера Павловна будет брать его к себе. Кое-как дотянули время до чаю, потом
спешили расстаться: Лопуховы сказали, что у них нынче будут гости.
Полгода Вера Павловна дышала чистым воздухом, грудь ее уже совершенно
отвыкла от тяжелой атмосферы хитрых слов, из которых каждое произносится по
корыстному расчету, от слушания мошеннических мыслей, низких планов, и
страшное впечатление произвел на нее ее подвал. Грязь, пошлость, цинизм
всякого рода, - все это бросалось теперь в глаза ей с резкостью новизны.
"Как у меня доставало силы жить в таких гадких стеснениях? Как я могла
дышать в этом подвале? И не только жила, даже осталась здорова. Это
удивительно, непостижимо. Как я могла тут вырасти с любовью к добру?
Непонятно, невероятно", думала Вера Павловна, возвращаясь домой, и
чувствовала себя отдыхающей после удушья.
Когда они приехали домой, к ним через несколько времени собрались
гости, которых они ждали, - обыкновенные тогдашние гости: Алексей Петрович с
Натальей Андреевной, Кирсанов, - и вечер прошел, как обыкновенно проходил с
ними. Как вдвойне отрадна показалась Вере Павловне ее новая жизнь с чистыми
мыслями, в обществе чистых людей"! По обыкновению, шел и веселый разговор со
множеством воспоминаний, шел и серьезный разговор обо всем на свете: от
тогдашних исторических дел (междоусобная война в Канзасе {63}, предвестница
нынешней великой войны Севера с Югом {64}, предвестница еще более великих
событий не в одной Америке, занимала этот маленький кружок: теперь о
политике толкуют все, тогда интересовались ею очень немногие; в числе
немногих - Лопухов, Кирсанов, их приятели) до тогдашнего спора о химических
основаниях земледелия по теории Либиха {65}, и о законах исторического
прогресса, без которых не обходился тогда ни один разговор в подобных
кружках {66}, и о великой важности различения реальных желаний {67}, которые
ищут и находят себе удовлетворение, от фантастических, которым не находится,
да которым и не нужно найти себе удовлетворение, как фальшивой жажде во
время горячки, которым, как ей, одно удовлетворение: излечение организма,
болезненным состоянием которого они порождаются через искажение реальных
желаний, и о важности этого коренного различения, выставленной тогда
антропологическою философиею, и обо всем, тому подобном и не подобном, но
родственном. Дамы по временам и вслушивались в эти учености, говорившиеся
так просто, будто и не учености, и вмешивались в них своими вопросами, а
больше - больше, разумеется, не слушали, даже обрызгали водою Лопухова и
Алексея Петровича, когда они уже очень восхитились великою важностью
минерального удобрения; но Алексей Петрович и Лопухов толковали о своих
ученостях непоколебимо. Кирсанов плохо помогал им, был больше, даже вовсе на
стороне дам, и они втроем играли, пели, хохотали до глубокой ночи, когда,
уставши, развели, наконец, и непоколебимых ревнителей серьезного разговора.
III. Второй сон Веры Павловны
И вот Вера Павловна засыпает, и снится Вере Павловне сон.
Поле, и по полю ходят муж, то есть миленький, и Алексей Петрович, и
миленький говорит:
Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему из одной грязи
родится пшеница такая белая, чистая и нежная, а из другой грязи не родится?
Эту разницу вы сами сейчас увидите. Посмотрите корень этого прекрасного
колоса: около корня грязь, но эта грязь свежая, можно сказать, чистая грязь;
слышите запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся. Вы знаете,
что на языке философии, которой мы с вами держимся {68}, эта чистая грязь
называется реальная грязь. Она грязна, это правда; но всмотритесь в нее
хорошенько, вы увидите, что все элементы, из которых она состоит, сами по
себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного
переменится расположение атомов, и выйдет что-нибудь другое: и все другое,
что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы.
Откуда же здоровое свойство этой грязи? обратите внимание на положение этой
поляны: вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому здесь не может быть
гнилости.
Да, движение есть реальность, - говорит Алексей Петрович, - потому
что движение - это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. Но жизнь имеет
главным своим элементом труд, а потому главный элемент реальности - труд, и
самый верный признак реальности - дельность.
Так видите, Алексей Петрович, когда солнце станет согревать эту грязь
и теплота станет перемещать ее элементы в более сложные химические
сочетания, то есть в сочетания высших форм, колос, который вырастает из этой
грязи от солнечного света, будет здоровый колос.
Да, потому что это грязь реальной жизни, - говорит Алексей Петрович.
Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение, также
рассматриваем его корень. Он также загрязнен. Обратите внимание на характер
этой грязи. Нетрудно заметить, что это грязь гнилая.
То есть, фантастическая грязь, по научной терминологии, - говорит
Алексей Петрович.
Так; элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии.
Натурально, что, как бы они ни перемещались и какие бы другие вещи, не
похожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут
нездоровые, дрянные.
Да, потому что самые элементы нездоровы, - говорит Алексей Петрович.
Нам нетрудно будет открыть причину этого нездоровья...
То есть, этой фантастической гнилости, - говорит Алексей Петрович.
Да, гнилости этих элементов, если мы обратим внимание на положение
этой поляны. Вы видите, вода не имеет стока из нее, потому застаивается,
Да, отсутствие движения есть отсутствие труда, - говорит Алексей
Петрович, - потому что труд представляется в антропологическом анализе
коренною формою движения, дающего основание и содержание всем другим формам:
развлечению, отдыху, забаве, веселью; они без предшествующего труда не имеют
реальности. А без движения нет жизни, то есть реальности, потому это грязь
фантастическая, то есть гнилая. До недавнего времени не знали, как
возвращать здоровье таким полянам; но теперь открыто средство; это - дренаж
{69}: лишняя вода сбегает по канавам, остается воды сколько нужно, и она
движется, и поляна получает реальность. Но пока это средство не применено,
эта грязь остается фантастическою, то есть гнилою, а на ней не может быть
хорошей растительности; между тем как очень натурально, что на грязи
реальной являются хорошие растения, так как она грязь здоровая. Что и
требовалось доказать: o-e-a-a-dum, как говорится по латине.
Как говорится по латине "что и требовалось доказать", Вера Павловна не
может расслушать.
А у вас, Алексей Петрович, есть охота забавляться кухонною латинью и
силлогистикою, - говорит миленький, то есть муж.
Вера Павловна подходит к ним и говорит:
Да полноте вам толковать о своих анализах, тожествах и
антропологизмах, пожалуйста, господа, что-нибудь другое, чтоб и я могла
участвовать в разговоре, или лучше давайте играть.
Давайте играть, - говорит Алексей Петрович, - давайте исповедываться.
Давайте, давайте, это будет очень весело, - говорит Вера Павловна: - но вы
подали мысль, вы покажите и пример исполнения.
С удовольствием, сестра моя, - говорит Алексей Петрович, - но вам
сколько лет, милая сестра моя, осьмнадцать?
Скоро будет девятнадцать.
Но еще нет; потому положим осьмнадцать, и будем все исповедываться до
осьмнадцати лет, потому что нужно равенство условий. Я буду исповедываться
за себя и за жену. Мой отец был дьячок в губернском городе и занимался
переплетным мастерством, а мать пускала на квартиру семинаристов. С утра до
ночи отец и мать все хлопотали и толковали о куске хлеба. Отец выпивал, но
только когда приходилась нужда невтерпеж, - это реальное горе, или когда
доход был порядочный; тут он отдавал матери все деньги и говорил: "ну,
матушка, теперь, слава богу, на два месяца нужды не увидишь; а я себе
полтинничек оставил, на радости выпью" - это реальная радость. Моя мать
часто сердилась, иногда бивала меня, но тогда, когда у нее, как она
говорила, отнималась поясница от тасканья корчаг и чугунов, от мытья белья
на нас пятерых и на пять человек семинаристов, и мытья полов, загрязненных
нашими двадцатью ногами, не носившими калош, и ухода за коровой; это -
реальное раздражение нерв чрезмерною работою без отдыха; и когда, при всем
этом, "концы не сходились", как она говорила, то есть нехватало денег на
покупку сапог кому-нибудь из нас, братьев, или на башмаки сестрам, - тогда
она бивала нас. Она и ласкала нас, когда мы, хоть глупенькие дети, сами
вызывались помогать ей в работе, или когда мы делали что-нибудь другое
умное, или когда выдавалась ей редкая минута отдохнуть, и ее "поясницу
отпускало", как она говорила, - это все реальные радости...
Ах, довольно ваших реальных горестей и радостей, - говорит Вера
Павловна.
В таком случае, извольте слушать исповедь за Наташу.
Не хочу слушать: в ней такие же реальные горести и радости, - знаю.
Совершенная правда.
Но, быть может, вам интересно будет выслушать мою исповедь, - говорит
Серж, неизвестно откуда взявшийся.
Посмотрим, - говорит Вера Павловна.
Мой отец и мать, хотя были люди богатые, тоже вечно хлопотали и
толковали о деньгах; и богатые люди не свободны от таких же забот...
Вы не умеете исповедываться, Серж, - любезно говорит Алексей
Петрович, - вы скажите, почему они хлопотали о деньгах, какие расходы их
беспокоили, каким потребностям затруднялись они удовлетворять?
Да, конечно, я понимаю, к чему вы спрашиваете, - говорит Серж, - но
оставим этот предмет, обратимся к другой стороне их мыслей. Они также
заботились о детях.
А кусок хлеба был обеспечен их детям? - спрашивает Алексей Петрович.
Конечно; но должно было позаботиться о том, чтобы...
Не исповедуйтесь, Серж, - говорит Алексей Петрович, - мы знаем вашу
историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном, - вот почва, на которой вы
выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от
природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не
глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны?
Пригоден на то, чтобы провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с
собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить, - отвечает Серж.
Из этого мы видим, - говорит Алексей Петрович, - что фантастическая
или нездоровая почва...
Ах, как вы надоели с вашею реальностью и фантастичностью! Давно
понятно, а они продолжают толковать! - говорит Вера Павловна.
Так не хочешь ли потолковать со мною? - говорит Марья Алексевна, тоже
неизвестно откуда взявшаяся: - вы, господа, удалитесь, потому что мать хочет
говорить с дочерью.
Все исчезают. Верочка видит себя наедине с Марьей Алексевною. Лицо
Марьи Алексевны принимает насмешливое выражение.
Вера Павловна, вы образованная дама, вы такая чистая и благородная, -
как же мне, грубой и злой пьянице, разговаривать с вами? У вас, Вера
Павловна, злая и дурная мать; а позвольте вас спросить, сударыня, о чем эта
мать заботилась? о куске хлеба: это по-вашему, по-ученому, реальная,
истинная, человеческая забота, не правда ли? Вы слышали ругательства, вы
видели дурные дела и низости; а позвольте вас спросить, какую цель они
имели? пустую, вздорную? Нет, сударыня. Нет, сударыня, какова бы ни была
жизнь вашего семейства, но это была не пустая, фантастическая жизнь. Видите,
Вера Павловна, я выучилась говорить по-вашему, по-ученому. Но вам, Вера
Павловна, прискорбно и стыдно, что ваша мать дурная и злая женщина? Вам
угодно, Вера Павловна, чтоб я была доброю и честною женщиною? Я ведьма, Вера
Павловна, я умею колдовать, я могу исполнить ваше желание. Извольте
смотреть, Вера Павловна, ваше желание исполняется: я, злая, исчезаю;
смотрите на добрую мать и ее дочь.
Комната. У порога храпит пьяный, небритый, гадкий мужчина. Кто - это
нельзя узнать, лицо наполовину закрыто рукою, наполовину покрыто синяками.
Кровать. На кровати женщина, - да, это Марья Алексевна, только добрая! зато
какая она бледная, дряхлая в свои 45 лет, какая изнуренная! У кровати
девушка лет 16, да это я сама, Верочка; только какая же я образованная. Да
что это? у меня и цвет лица какой-то желтый, да черты грубее, да и комната
какая бедная! Мебели почти нет. - "Верочка, друг мой, ангел мой, - говорит
Марья Алексевна, - приляг, отдохни, сокровище, ну, что на меня смотреть, я и
так полежу. Ведь ты третью ночь не спишь".
Ничего, маменька, я не устала, - говорит Верочка.
А мне все не лучше, Верочка; как-то ты без меня останешься? У отца
жалованьишко маленькое, и сам-то он плохая тебе опора. Ты девушка красивая;
злых людей на свете много. Предостеречь тебя будет некому. Боюсь я за тебя.
Верочка плачет.
Милая моя, ты не огорчись, я тебе не в укор это скажу, а в
предостереженье: ты зачем в пятницу из дому уходила, за день перед тем, как
я разнемоглась? - Верочка плачет.
Он тебя обманет, Верочка, брось ты его.
Нет, маменька.
Два месяца. Как это, в одну минуту, прошли два месяца? Сидит офицер. На
столе перед офицером бутылка. На коленях у офицера она, Верочка.
Еще дна месяца прошли в одну минуту.
Сидит барыня. Перед барынею стоит она, Верочка.
А гладить умеешь, милая?
А из каких ты, милая? крепостная или вольная?
У меня отец чиновник.
Так из благородных, милая? Так я тебя нанять не могу. Какая же ты
будешь слуга? Ступай, моя милая, не могу.
Верочка на улице.
Мамзель, а мамзель, - говорит какой-то пьяноватый юноша, - вы куда
идете? Я вас провожу, - Верочка бежит к Неве.
Что, моя милая, насмотрелась, какая ты у доброй-то матери была? -
говорит прежняя, настоящая Марья Алексевна. - Хорошо я колдовать умею? Аль
не угадала? Что молчишь? Язык-то есть? Да я из тебя слова-то выжму: вишь ты,
нейдут с языка-то! По магазинам ходила?
Ходила, - отвечает Верочка, а сама дрожит.
Видала? Слыхала?
Хорошо им жить? Ученые они? Книжки читают, об новых ваших порядках
думают, как бы людям добро делать? Думают, что ли? - говори!
Верочка молчит, а сама дрожит.
Эх из тебя и слова-то нейдут. Хорошо им жить? - спрашиваю.
Верочка молчит, а сама холодеет.
Нейдут из тебя слова-то. Хорошо им жить? - спрашиваю; хороши они? -
спрашиваю; такой хотела бы быть, как они? - Молчишь! рыло-то воротишь! -
Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая - на мои воровские деньги учена.
Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что
такое добром называется. Понимаешь? _Все_ от меня, _моя_ ты дочь, понимаешь?
Я_ тебе мать.
Верочка и плачет, и дрожит, и холодеет.
Маменька, чего вы от меня хотите? Я не могу любить вас.
А я разве прошу: полюби?
Мне хотелось бы, по крайней мере, уважать вас, но я и этого не могу.
А я нуждаюсь в твоем уважении?
Что же вам нужно, маменька? зачем вы пришли ко мне так страшно
говорить со мною? Чего вы хотите от меня?
Будь признательна, неблагодарная. Не люби, не уважай. Я злая: что
меня любить? Я дурная: что меня уважать? Но ты пойми, Верка, что кабы я не
такая была, и ты бы не такая была. Хорошая ты - от меня дурной; добрая ты -
от меня злой. Пойми, Верка, благодарна будь.
Уйдите, Марья Алексевна, теперь я поговорю с сестрицею.
Марья Алексевна исчезает.
Невеста своих женихов, сестра своих сестер берет Верочку за руку, -
Верочка, я хотела всегда быть доброй с тобой, ведь ты добрая, а я такова,
каков сам человек, с которым я говорю. Но ты теперь грустная, - видишь, и я
грустная; посмотри, хороша ли я грустная?
Все-таки лучше всех на свете.
Поцелуй меня, Верочка, мы вместе огорчены. Ведь твоя мать говорила
правду. Я не люблю твою мать, но она мне нужна.
Разве без нее нельзя вам?
После будет можно, когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь
нельзя. Видишь, добрые не могут сами стать на ноги, злые сильны, злые хитры.
Но видишь, Верочка, злые бывают разные: одним нужно, чтобы на свете
становилось хуже, другим, тоже злым, чтобы становилось лучше: так нужно для
их пользы. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная: ведь
она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки; ведь она хотела, чтоб
ее дочь поймала богатого зятя ей, а для этого ей было нужно, чтобы ты была
образованная. Видишь, у нее были дурные мысли, но из них выходила польза
человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так. Если бы твоя мать
была Анна Петровна, разве ты училась бы так, чтобы ты стала образованная,
узнала добро, полюбила его? Нет, тебя бы не допустили узнать что-нибудь
хорошее, тебя бы сделали куклой, - так? Такой матери нужна дочь-кукла,
потому что она сама кукла, и все играет с куклами в куклы. А твоя мать
человек дурной, но все-таки человек, ей было нужно, чтобы ты не была куклой.
Видишь, как злые бывают разные? Одни мешают мне: ведь я хочу, чтобы люди
стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают
мне, - они не хотят помогать мне, но дают простор людям становиться людьми,
они собирают средства людям становиться людьми. А мне только этого и нужно.
Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других
злых. Мои злые - злы, но под их злою рукою растет добро. Да, Верочка, будь
признательна к своей матери. Не люби ее, она злая, но ты ей всем обязана,
знай это: без нее не было бы тебя.
И всегда так будет? Нет, так не будет?
Да, Верочка, после так не будет. Когда добрые будут сильны, мне не
нужны будут злые, Это скоро будет, Верочка. Тогда злые увидят, что им нельзя
быть злыми; и те злые, которые были людьми, станут добрыми: ведь они были
злыми только потому, что им вредно было быть добрыми, а ведь они знают, что
добро лучше зла, они полюбят его, когда можно будет любить его без вреда.
А те злые, которые были куклами, что с ними будет? Мне и их жаль.
Они будут играть в другие куклы, только уж в безвредные куклы. Но
ведь у них не будет таких детей, как они: ведь у меня все люди будут людьми;
и их детей я выучу быть не куклами, а людьми.
Ах, как это будет хорошо!
Да, но и теперь хорошо, потому что готовится это хорошее; по крайней
мере, тем и теперь очень хорошо, кто готовит его. Когда ты, Верочка,
помогаешь кухарке готовить обед, ведь в кухне душно, чадно, а ведь тебе
хорошо, нужды нет, что душно и чадно? Всем хорошо сидеть за обедом, но лучше
всех тому, кто помогал готовить его: тому он вдвое вкуснее. А ты любишь
сладко покушать, Верочка, - правда?
Правда, - говорит Верочка и улыбается, что уличена в любви к сладким
печеньям и в хлопотах над ними в кухне.
Так о чем же грустить? Да ты уж и не грустишь.
Какая вы добрая!
И веселая, Верочка, я всегда веселая, и когда грустная, все-таки
веселая. - Правда?
Да, когда мне грустно, вы придете тоже как будто грустная, а всегда
сейчас прогоните грусть; с вами весело, очень весело.
А помнишь мою песенку: "Donc, vivons" {"Итак, живем" (франц.), -
Давай же петь.
Давайте.
Верочка! Да я разбудил тебя? впрочем, уж чай готов. Я было испугался:
слышу, ты стонешь, вошел, ты уже поешь.
Нет, мой миленький, не разбудил, я сама бы проснулась. А какой я сон
видела, миленький, я тебе расскажу за чаем. Ступай, я оденусь. А как вы
смели войти в мою комнату без дозволения, Дмитрий Сергеич? Вы забываетесь.
Испугался за меня, мой миленький? подойди, я тебя поцелую за это.
Поцеловала; ступай же. Ступай, мне надо одеваться
Да уж так и быть, давай, я тебе прислужу вместо горничной.
Ну, пожалуй, миленький; только как это стыдно!
Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, вначале
даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала своим
трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что даст им плату несколько,
немного побольше той, какую швеи получают в магазинах; дело не представляло
ничего особенного; швеи видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не
легкомысленная, потому без всяких недоумений приняли ее предложение работать
у ней: не над чем было недоумевать, что небогатая дама хочет завести
швейную. Эти три девушки нашли еще трех или четырех, выбрали их с тою
осмотрительностью, о которой просила Вера Павловна; в этих условиях выбора
тоже не было ничего возбуждающего подозрение, то есть ничего особенного:
молодая и скромная женщина желает, чтобы работницы в мастерской были девушки
прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые, что же тут
особенного? Не хочет ссор, и только; поэтому умно, и больше ничего. Вера
Павловна сама познакомилась с этими выбранными, хорошо познакомилась прежде,
чем сказала, что принимает их, это натурально; это тоже рекомендует ее как
женщину основательную, и только. Думать тут не над чем, не доверять нечему.
©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-07
Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы
прибыль делилась поровну между всеми. До этого дошли только в половине
третьего года, а прежде того перешли через несколько разных ступеней,
начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате. Прежде всего
увидели, что если девушка пропускала без работы несколько дней по болезни
или другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из
прибыли, которая ведь приобретена не собственно этими днями, а всем ходом
работ и общим состоянием мастерской. Потом согласились, что закройщицы и
другие девушки, получающие особую плату по развозу заказов и другим
должностям, уже довольно вознаграждаются своим собственным жалованьем, и что
несправедливо им брать больше других еще и из прибыли. Простые швеи, не
занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены,
когда заметили несправедливость прежнего порядка, ими же заведенного: сами
должностные лица почувствовали неловкость пользования лишним и отказывались
от него, когда достаточно поняли дух нового порядка. Надобно, впрочем,
сказать, что эта временная деликатность - терпения одних и отказа других -
не представляла особенного подвига, при постоянном улучшении дел тех и
других. Труднее всего было развить понятие о том, что простые швеи должны
все получать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают зарабатывать
больше жалованья, чем другие, что швеи, работающие успешнее других, уже
достаточно вознаграждаются за успешность своей работы тем, что успевают
зарабатывать больше платы. Это и была последняя перемена в распределении
прибыли, сделанная уже в половине третьего года, когда мастерская поняла,
что получение прибыли - не вознаграждение за искусство той или другой
личности, а результат общего характера мастерской, - результат ее
устройства, ее цели, а цель эта - всевозможная одинаковость пользы от работы
для всех, участвующих в работе, каковы бы ни были личные особенности; что от
этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли; а
характер мастерской, ее дух, порядок составляется единодушием всех, а для
единодушия одинаково важна всякая участница: молчаливое согласие самой
застенчивой или наименее даровитой не менее полезно для сохранения развития
порядка, полезного для всех, для успеха всего дела, чем деятельная
хлопотливость самой бойкой или даровитой.
Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую,
а только говорю о ней лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки
деятельности Веры Павловны. Если я упоминаю о некоторых частностях, то
единственно затем, чтобы видно было, как поступала Вера Павловна, как она
вела дело шаг за шагом, и терпеливо, и неутомимо, и как твердо выдерживала
свое правило: не распоряжаться ничем, а только советовать, объяснять,
предлагать свое содействие, помогать исполнению решенного ее компаниею.
Прибыль делилась каждый месяц. Сначала каждая девушка брала всю ее и
расходовала отдельно от других: у каждой были безотлагательные надобности, и
не было привычки действовать дружно. Когда от постоянного участия в делах
они приобрели навык соображать весь ход работ в мастерской, Вера Павловна
обратила их внимание на то, что в их мастерстве количество заказов
распределяется по месяцам года очень неодинаково и что в месяцы особенно
выгодные недурно било бы отлагать часть прибыли для уравнения невыгодных
месяцев. Счеты велись очень точные, девушки знали, что если кто из них
покинет мастерскую, то без задержки получит свою долю, остающуюся в кассе.
Потому они согласились на предложение. Образовался небольшой запасный
капитал, он постепенно рос; начали приискивать разные употребления ему. С
первого же раза все поняли, что из него можно делать ссуды тем участницам,
которым встречается экстренная надобность в деньгах, и никто не захотел
присчитывать проценты на занятые деньги: бедные люди имеют понятие, что
хорошее денежное пособие бывает без процентов. За учреждением этого банка
последовало основание комиссионерства для закупок: девушки нашли выгодным
покупать чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи через посредство
мастерской, которая брала товары не по мелочи, стало быть, дешевле. От этого
порядком устроить покупку хлеба и других припасов, которые берутся каждый
день в булочных и мелочных лавочках; но тут же увидели, что для этого
надобно всем жить по соседству: стали собираться по нескольку на одну
квартиру, выбирать квартиры подле мастерской. Тогда явилось у мастерской
свое агентство по делам с булочною и мелочною лавочкою. А года через полтора
почти все девушки уже жили на одной большой квартире, имели общий стол,
запасались провизиею тем порядком, как делается в больших хозяйствах.
Половина девушек были существа одинокие. У некоторых были старухи
родственницы, матери или тетки; две содержали стариков-отцов; у многих были
маленькие братья или сестры. По этим родственным отношениям три девушки не
могли поселиться на общей квартире: у одной мать была неуживчивого
характера; у другой мать была чиновница и не хотела жить вместе с мужичками,
у третьей отец был пьяница. Они пользовались только услугами агентства;
точно так же и те швеи, которые были не девушки, а замужние женщины. Но,
кроме трех, все остальные девушки, имевшие родственников на своих руках,
жили на общей квартире. Сами они жили в одних комнатах, по две, по три в
одной; их родственники или родственницы расположились по своим удобствам: у
двух старух были особые комнаты у каждой, остальные старухи жили вместе. Для
маленьких мальчиков была своя комната, две другие для девочек. Положено
было, что мальчики могут оставаться тут до 8 лет; тех, кому было больше,
размещали по мастерствам.
Всему велся очень точный счет, чтобы вся компания жила твердою мыслью,
что никто ни у кого не в обиде, никто никому не в убыток. Расчеты одиноких
девушек по квартире и столу были просты. После нескольких колебаний
взрослой девицы, потом содержание девочки до 12 лет считалось за третью
долю, с 12 - за половину содержания сестры ее, с 1З лет девочки поступали в
ученицы в мастерскую, если не пристраивались иначе, и положено было, что с
16 лет они становятся полными участницами компании, если будут признаны
выучившимися хорошо шить. За содержание взрослых родных считалось,
разумеется, столько же, как за содержание швей. За отдельные комнаты была
особая плата. Почти все старухи и все три старика, жившие в
мастерской-квартире, занимались делами по кухне и другим хозяйственным
вещам; за это, конечно, считалась им плата.
Все это очень скоро рассказывается на словах, да и на деле показалось
очень легко, просто, натурально, когда устроилось. Но устраивалось медленно,
и каждая новая мера стоила очень многих рассуждений, каждый переход был
следствием целого ряда хлопот. Было бы слишком длинно и сухо говорить о
других сторонах порядка мастерской так же подробно, как о разделе и
употреблении прибыли; о многом придется вовсе не говорить, чтобы не
наскучить, о другом лишь слегка упомянуть; например, что мастерская завела
свое агентство продажи готовых вещей, работанных во время, не занятое
заказами, - отдельного магазина она еще не могла иметь, но вошла в сделку с
одною из лавок Гостиного двора, завела маленькую лавочку в Толкучем рынке, -
две из старух были приказчицами в лавочке. Но надобно несколько подробнее
сказать об одной стороне жизни мастерской.
Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги. Сделав свои
не перерывала ее надобность опять заняться распоряжениями. Потом девушки
отдыхали от слушания; потом опять чтение, и опять отдых. Нечего и говорить,
что девушки с первых же дней пристрастились к чтению, некоторые были
охотницы до него и прежде. Через две-три недели чтение во время работы
приняло регулярный вид. Через три-четыре месяца явилось несколько мастериц
получасу, и что этот получас зачитывается им за работу. Когда с Веры
заменявшая иногда чтение рассказами, стала рассказывать чаще и больше; потом
рассказы обратились во что-то похожее на легкие курсы разных знаний. Потом,
Это было очень большим шагом, - Вера Павловна увидела возможность завесть
и правильное преподавание: девушки стали так любознательны, а работа их шла
так успешно, что они решили делать среди рабочего дня, перед обедом, большой
перерыв для слушания уроков.
Алексей Петрович, - сказала Вера Павловна, бывши однажды у
Мерцаловых, - у меня есть к вам просьба. Наташа уж на моей стороне. Моя
мастерская становится лицеем всевозможных знаний. Будьте одним из
профессоров,
Что ж я стану им преподавать? разве латинский и греческий, или логику
и реторику? - сказал, смеясь, Алексей Петрович. - Ведь моя специальность не
очень интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека, про
которого я знаю, кто он {71}.
Нет, вы необходимы именно, как специалист: вы будете служить щитом
благонравия и отличного направления наших наук.
А ведь это правда. Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте
Например, русская история, очерки из всеобщей истории.
специалист. Отлично. Две должности: профессор и щит. Наталья Андреевна,
Лопухов, два-три студента, сама Вера Павловна были другими профессорами, как
они в шутку называли себя.
Вместе с преподаванием, устраивались и развлечения. Бывали вечера,
бывали загородные прогулки: сначала изредка, потом, когда было уже побольше
денег, то и чаще; брали ложи в театре. На третью зиму было абонировано
десять мест в боковых местах итальянской оперы {72}.
Сколько было радости, сколько счастья Вере Павловне; очень много трудов
и хлопот, были и огорчения. Особенно сильно подействовало не только на нее,
но и на весь кружок несчастие одной из лучших девушек мастерской. Сашенька
Прибыткова, одна из тех трех швей, которых нашла сама Вера Павловна, была
очень недурна, была очень деликатна. У ней был жених, добрый, хороший
молодой человек, чиновник. Однажды она шла по улице, довольно поздно. К ней
пристал какой-то господин. Она ускорила шаг. Он за нею, схватил ее за руку.
Она рванулась и вырвалась; но движением вырвавшейся руки задела его по
груди, на тротуаре зазвенели оторвавшиеся часы любезного господина. Любезный
господин схватил Прибыткову уже с апломбом и чувством законного права, и
закричал: "Воровство! будочник!" Прибежали два будочника и отвели Прибыткову
на съезжую. В мастерской три дня ничего не знали о ее судьбе и не могли
придумать, куда она пропала. На четвертый день добрый солдат, один из
служителей при съезжей, принес Вере Павловне записку от Прибытковой. Тотчас
же Лопухов отправился хлопотать. Ему наговорили грубостей, он наговорил их
вдвое, и отправился к Сержу. Серж и Жюли были на каком-то далеком и большом
пикнике и возвратились только на другой день. Через два часа после того как
возвратился Серж, частный пристав извинился перед Прибытковой, поехал
извиняться перед ее женихом. Но жениха он не застал. Жених уже был накануне
у Прибытковой на съезжей, узнал от задержавших ее будочников имя франта,
пришел к нему, вызвал его на дуэль; до вызова франт извинялся в своей ошибке
довольно насмешливым тоном, а, услышав вызов, расхохотался. Чиновник сказал:
"так вот от этого вызова не откажетесь" и ударил его по лицу; франт схватил
палку, чиновник толкнул его в грудь; франт упал, на шум вбежала прислуга;
барин лежал мертвый, он был ударен о землю сильно и попал виском на острый
выступ резной подножки стола. Чиновник очутился в остроге, началось дело, и
поры жалко было смотреть на Прибыткову.
Было в мастерской еще несколько историй, не таких уголовных, но тоже
невеселых: истории обыкновенные, те, от которых девушкам бывают долгие
слезы, а молодым или пожилым людям не долгое, но приятное развлечение. Вера
Павловна знала, что, при нынешних понятиях и обстоятельствах, эти истории
неизбежны, что не может всегда предохранить от них никакая заботливость
других о девушках, никакая осторожность самих девушек. Это то же, что в
старину была оспа, пока не выучились предотвращать ее. Теперь кто пострадает
от оспы, так уже виноват сам, а гораздо больше его близкие: а прежде было не
то: некого было винить, кроме гадкого поветрия или гадкого города, села, да
разве еще того человека, который, страдая оспою, прикоснулся к другому, а не
заперся в карантин, пока выздоровеет. Так теперь с этими историями:
когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно,
только еще не хотят принимать его, все равно, как долго, очень долго не
хотели принимать и средства против оспы {73}. Знала Вера Павловна, что это
гадкое поветрие еще неотвратимо носится по городам и селам и хватает жертвы
даже из самых заботливых рук; - но ведь это еще плохое утешение, когда
знаешь только, что "я в твоей беде не виновата, и ты, мой друг, в ней не
виновата"; все-таки каждая из этих обыкновенных историй приносила Вере
Павловне много огорчения, а еще гораздо больше дела: иногда нужно бывало
искать, чтобы помочь; чаще искать не было нужды, надобно было только
помогать: успокоить, восстановлять бодрость, восстановлять гордость,
вразумлять, что "перестань плакать, - как перестанешь, так и не о чем будет
плакать".
Но гораздо больше, - о, гораздо больше! - было радости. Да все было
радость, кроме огорчений; а ведь огорчения были только отдельными, да и
редкими случаями: ныне, через полгода, огорчишься за одну, а в то же время
радуешься за всех других; а пройдет две-три недели, и за эту одну тоже уж
можно опять радоваться. Светел и весел был весь обыденный ход дела,
постоянно радовал Веру Павловну. А если и бывали иногда в нем тяжелые
нарушения от огорчений, за них вознаграждали и особенные радостные случаи,
которые встречались чаще огорчений: вот удалось очень хорошо пристроить
маленьких сестру или брата той-другой девушки; на третий год, две девушки
выдержали экзамен на домашних учительниц, - ведь это было какое счастье для
них! Было несколько разных таких хороших случаев. А чаше всего причиною
веселья для всей мастерской и радости для Веры Павловны бывали свадьбы. Их
бывало довольно много, и все были удачны. Свадьба устраивалась очень весело:
много бывало вечеров и перед нею и после нее, много сюрпризов невесте от
подруг по мастерской; из резервного фонда делалось ей приданое: но опять,
сколько и хлопот бывало тут Вере Павловне, - полные руки, разумеется! Одно
только сначала казалось мастерской неделикатно со стороны Веры Павловны:
первая невеста просила ее быть посаженною матерью и не упросила; вторая тоже
просила и не упросила. Чаще всего посаженною матерью бывала Мерцалова или ее
мать, тоже очень хорошая дама, а Вера Павловна никогда: она и одевала, и
провожала невесту в церковь, но только как одна из подруг. В первый раз
подумали, что отказ был от недовольства чем-нибудь, но нет: Вера Павловна
была очень рада приглашению, только не приняла его; во второй раз поняли,
что это, просто, скромность: Вере Павловне не хотелось официально являться
патроншею невесты. Да и вообще она всячески избегала всякого вида влияния,
старалась выводить вперед других и успевала в этом, так что многие из дам,
приезжавших в мастерскую для заказов, не различали ее от двух других
закройщиц. А Вера Павловна чувствовала едва ли не самую приятную из всех
своих радостей от мастерской, когда объясняла кому-нибудь, что весь этот
порядок устроен и держится самими девушками; этими объяснениями она
старалась убедить саму себя в том, что ей хотелось думать: что мастерская
могла бы идти без нее, что могут явиться совершенно самостоятельно другие
такие же мастерские и даже почему же нет? вот было бы хорошо! - это было бы
лучше всего! - даже без всякого руководства со стороны кого-нибудь не из
разряда швей, а исключительно мыслью и уменьем самих швей: это была самая
любимая мечта Веры Павловны.
И вот таким образом прошло почти три года со времени основания
мастерской, более трех лет со времени замужества Веры Павловны. Как тихо и
деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия, и радости, и
всего доброго.
Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели; она любит
нежиться, и немножко будто дремлет, и не дремлет, а думает, что надобно
сделать; и так полежит, не дремлет, и не думает - нет, думает: "как тепло,
мягко, хорошо, славно нежиться поутру"; так и нежится, пока из нейтральной
комнаты, - нет, надобно сказать: одной из нейтральных комнат, теперь уже две
их, ведь это уже четвертый год замужества, - муж, то есть "миленький",
говорит: "Верочка, проснулась?" - "Да, миленький". Это значит, что муж может
начинать делать чай: поутру он делает чай, и что Вера Павловна, - нет, в
своей комнате она не Вера Павловна, а Верочка, - начинает одеваться. Как же
долго она одевается! - нет, она одевается скоро, в одну минуту, но она долго
плещется в воде, она любит плескаться, и потом долго причесывает волосы, -
нет, не причесывает долго, это она делает в одну минуту, а долго так шалит
ими, потому что она любит свои волосы; впрочем, иногда долго занимается она
и одною из настоящих статей туалета, надеванием ботинок; у ней отличные
ботинки; она одевается очень скромно, но ботинки ее страсть.
Вот она и выходит к чаю, обнимает мужа: - "каково почивал, миленький?",
толкует ему за чаем о разных пустяках и непустяках; впрочем, Вера Павловна -
нет, Верочка: она и за утренним чаем еще Верочка - пьет не столько чай,
сколько сливки; чай только предлог для сливок, их больше половины чашки;
сливки - это тоже ее страсть. Трудно иметь хорошие сливки в Петербурге, но
Верочка отыскала действительно отличные, без всякой подмеси. У ней есть
мечта иметь свою корову; что ж, если дела пойдут, как шли, это можно будет
сделать через год. Но вот десять часов. "Миленький" уходит на уроки или на
занятие: он служит в конторе одного фабриканта. Вера Павловна, - теперь она
уже окончательно Вера Павловна до следующего утра, - хлопочет по хозяйству:
ведь у ней одна служанка, молоденькая девочка, которую надобно учить всему;
а только выучишь, надобно приучать новую к порядку: служанки не держатся у
Веры Павловны, все выходят замуж - полгода, немного больше, смотришь, Вера
Павловна уж и шьет себе какую-нибудь пелеринку или рукавчики, готовясь быть
посаженною матерью; тут уж нельзя отказаться, -"как же, Вера Павловна, ведь
вы сами все устроили, некому быть, кроме вас". Да, много хлопот по
хозяйству. Потом надобно отправляться на уроки, их довольно много, часов 10
в неделю: больше было бы тяжело, да и некогда. Перед уроками надобно
довольно надолго зайти в мастерскую, возвращаясь с уроков, тоже надобно
заглянуть в нее. А вот и обед с "миленьким". За обедом довольно часто бывает
кто-нибудь: один, много двое, - больше двоих нельзя; когда и двое обедают,
уж надобно несколько хлопотать, готовить новое блюдо, чтобы достало кушанья.
Если Вера Павловна возвращается усталая, обед бывает проще; она перед обедом
сидит в своей комнате, отдыхая, и обед остается, какой был начат при ее
помощи, а докончен без нее. Если же она возвращается не усталая, в кухне
начинает кипеть дело, и к обеду является прибавка, какое-нибудь печенье,
чаще всего что-нибудь такое, что едят со сливками, то есть, что может
служить предлогом для сливок. За обедом Вера Павловна опять рассказывает и
расспрашивает, но больше рассказывает; да и как же не рассказывать? Сколько
нового надобно сообщить об одной мастерской. После обеда сидит еще с
четверть часа с миленьким, "до свиданья" и расходятся по своим комнатам, и
Вера Павловна опять на свою кроватку, и читает, и нежится; частенько даже
спит, даже очень часто, даже чуть ли не наполовину дней спит час-полтора, -
это слабость, и чуть ли даже не слабость дурного тона, но Вера Павловна спит
после обеда, когда заснется, и даже любит, чтобы заснулось, и не чувствует
ни стыда, ни раскаяния в этой слабости дурного тона. Встает, вздремнувши или
так понежившись часа полтора-два, одевается, опять в мастерскую, остается
там до чаю. Если вечером нет никого, то за чаем опять рассказ миленькому, и
с полчаса сидят в нейтральной комнате; потом "до свиданья, миленький",
целуются и расходятся до завтрашнего чаю. Теперь Вера Павловна, иногда
довольно долго, часов до двух, работает, читает, отдыхает от чтения за
фортепьяно, - рояль стоит в ее комнате; рояль недавно куплен, прежде был
абонированный; это было тоже довольно порядочное веселье, когда был куплен
свой рояль, - ведь это и дешевле. Он куплен по случаю, за 100 рублей,
маленький Эраровский, старый, поправка стоила около 7О рублей; но зато рояль
действительно очень хорошего тона. Изредка миленький приходит послушать
пение, но только изредка: у него очень много работы. Так проходит вечер:
работа, чтение, игра, пение, больше всего чтение и пение. Это, когда никого
нет. Но очень часто по вечерам бывают гости, - большею частью молодые люди,
моложе "миленького", моложе самой Веры Павловны, - из числа их и
преподаватели мастерской. Они очень уважают Лопухова, считают его одною из
лучших голов в Петербурге, может быть, они и не ошибаются, и настоящая связь
их с Лопуховыми заключается в этом: {74} они находят полезными для себя
разговоры с Дмитрием Сергеичем. К Вере Павловне они питают беспредельное
благоговение, она даже дает им целовать свою руку, не чувствуя себе
унижения, и держит себя с ними, как будто пятнадцатью годами старше их, то
есть держит себя так, когда не дурачится, но, по правде сказать, большею
частью дурачится, бегает, шалит с ними, и они в восторге, и тут бывает
довольно много галопированья и вальсированья, довольно много простой
беготни, много игры на фортепьяно, много болтовни и хохотни, и чуть ли не
больше всего пения; но беготня, хохотня и все нисколько не мешает этой
молодежи совершенно, безусловно и безгранично благоговеть перед Верою
Павловною, уважать ее так, как дай бог уважать старшую сестру, как не всегда
уважается мать, даже хорошая. Впрочем, пение уже не дурачество, хоть иногда
не обходится без дурачеств; но большею частью Вера Павловна поет серьезно,
иногда и без пения играет серьезно, и слушатели тогда сидят в немой тишине.
Не очень редко бывают гости и постарше, ровня Лопуховым: большею частью
бывшие товарищи Лопухова, знакомые его бывших товарищей, человека два-три
молодых профессоров, почти все люди бессемейные; из семейных людей почти
только Мерцаловы. Лопуховы бывают в гостях не так часто, почти только у
Мерцаловых, да у матери и отца Мерцаловой; у этих добрых простых стариков
есть множество сыновей, занимающих порядочные должности по всевозможным
ведомствам, и потому в доме стариков, живущих с некоторым изобилием, Вера
Павловна видит многоразличное и разнокалиберное общество.
Вольная, просторная, деятельная жизнь, и не без некоторого сибаритства:
лежанья нежась в своей теплой, мягкой постельке, сливок и печений со
сливками, - она очень нравится Вере Павловне.
Бывает ли лучше жизнь на свете? Вере Павловне еще кажется: нет.
Да в начале молодости едва ли бывает.
Но годы идут, и с годами становится лучше, если жизнь идет, как должна
идти, как теперь идет у немногих. Как будет когда-нибудь идти у всех.
Однажды, - это было уже под конец лета, - девушки собрались, по
обыкновению, в воскресенье на загородную прогулку. Летом они почти каждый
праздник ездили на лодках, на острова. Вера Павловна обыкновенно ездила с
ними, в этот раз поехал и Дмитрий Сергеич, вот почему прогулка и была
замечательна: его спутничество было редкостью, и в то лето он ехал еще
только во второй раз. Мастерская, узнав об этом, осталась очень довольна:
Вера Павловна будет еще веселее обыкновенного, и надобно ждать, что прогулка
будет особенно, особенно одушевлена. Некоторые, располагавшие провести
воскресенье иначе, изменили свой план и присоединились к собиравшимся ехать.
Понадобилось взять, вместо четырех больших яликов, пять, и того оказалось
мало, взяли шестой. Компания имела человек пятьдесят или больше народа:
более двадцати швей, - только шесть не участвовали в прогулке, - три пожилые
женщины, с десяток детей, матери, сестры и братья швей, три молодые
человека, женихи: один был подмастерье часовщика, другой - мелкий торговец,
и оба эти мало уступали манерами третьему, учителю уездного училища, человек
пять других молодых людей, разношерстных званий, между ними даже двое
офицеров, человек восемь университетских и медицинских студентов. Взяли с
собою четыре больших самовара, целые груды всяких булочных изделий,
громадные запасы холодной телятины и тому подобного: народ молодой, движенья
будет много, да еще на воздухе, - на аппетит можно рассчитывать; было и с
полдюжины бутылок вина: на 5О человек, в том числе более 10 молодых людей,
кажется, не много.
И действительно, прогулка удалась как нельзя лучше. Тут всего было:
танцовали в 16 пар, и только в 12 пар, зато и в 18, одну кадриль даже в 20
пар; играли в горелки, чуть ли не в 22 пары, импровизировали трое качелей
между деревьями; в промежутках всего этого пили чай, закусывали; с полчаса,
Нет, меньше, гораздо меньше, чуть ли не половина компании даже слушала
спор Дмитрия Сергеича с двумя студентами {75}, самыми коренными его
приятелями из всех младших его приятелей; они отыскивали друг в друге
неконсеквентности, модерантизм, буржуазность, - это были взаимные
опорочиванья; но, в частности, у каждого отыскивался и особенный грех. У
одного студента - романтизм, у Дмитрия Сергеича - схематистика, у другого
студента - ригоризм; разумеется, постороннему человеку трудно выдержать
такие разыскиванья дольше пяти минут, даже один из споривших, романтик, не
выдержал больше полутора часов, убежал к танцующим, но убежал не без славы.
Он вознегодовал на какого-то модерантиста, чуть ли не на меня даже, хоть
меня тут и не было {76}, и зная, что предмету его гнева уж немало лет, он
воскликнул: "да что вы о нем говорите? я приведу вам слова, сказанные мне на
днях одним порядочным человеком, очень умной женщиной: только до 25 лет
человек может сохранять честный образ мыслей". - Да ведь я знаю, кто эта
дама, -сказал офицер, на беду романтика подошедший к спорившим: - это г-жа
N.; она при мне это и сказала; и она действительно отличная женщина, только
ее тут же уличили, что за полчаса перед тем она хвалилась, что ей 26 лет, и
помнишь, сколько она хохотала вместе со всеми? И теперь все четверо
захохотали, и романтик с хохотом бежал. Но офицер заместил его в споре, и
пошла потеха пуще прежней, до самого чаю. И офицер, жесточе чем романтик
обличая ригориста и схематиста, сам был сильно уличаем в огюст-контизме.
Этот роман был написан Н. Г. Чернышевским всего за четыре месяца, с декабря 1862 по март 1863 года, в крайне непростой для него жизненной ситуации, когда он находился в предварительном заключении в Петропавловской крепости, по обвинению в подготовке государственного переворота.
"Что делать?", был создан в жанре философско - утопического романа, с целью заставить его читателей принять созданное к том моменту Чернышевским мировоззрение русского коммунизма как руководство к действию, в результате чего он стал учебником жизни для нескольких поколений русских революционеров.
Основу содержания этого романа составляют те его разделы, которые именуются "Сны Веры Павловны". В этих "снах" главной героини романа Веры Павловны Розальской, которая на его страницах большей частью именуется просто как Вера Павловна, автор доносит до читателей в виде художественных образов все свои политические, философские и экономические идеи, предсказывая и объясняя всё то, что по его мнению последует в дальнейшем в России и мире.
Именно, развернутый показ путей подготовки подобной русской социалистической революции и развертывание живописной картины, последующего утверждения коммунизма в масштабе всей планеты и составили основное содержание романа "Что делать?".
Часть 2. Роман Н. Г. Чернышевского "Что делать?" - история его создание и его всемирно - историческое значение
Роман выдающегося даже по тем временам русского мыслителя Николая Гавриловича Чернышевского "Что делать?", был написан им, во время предварительного досудебного заключения в Петропавловской крепости (Петербург), в период с декабря 1862 по март 1863 года.
"Что делать?" - был создан автором в жанре философско - утопического романа, и был рассчитан не на чувственную и образную, а на рациональную и рассудочную способность своего читателя. Цель данного произведения заставить читателей пересмотреть свои взгляды на жизнь и принять истину коммунистического миросозерцания как руководство к действию. Роман стал "учебником жизни", для нескольких поколений русских революционеров, вплоть до начала 20 - го века.
В романе Чернышевский показал разрушение старого мира и появление нового, изобразил новых людей, боровшихся за счастье народа. Но самое главное - это то, что Чернышевский показал в своем романе "Что делать?" общество будущего как реальность.
Своим романом Чернышевский стремится пробудить в читателях веру в неизбежную победу социализма, а затем и построение коммунизма. В связи с этим, особое место в романе занимают эпизоды или разделы, именуемые "Сны Веры Павловны".
В этих "снах", своей главной героини Веры Павловны Розальской (её девичья фамилия), которая в романе большей часть именуется по имени - отчеству, как Вера Павловна, автор проводит свои основные политические идеи, объясняя или предсказывая то, что последует в дальнейшем в жизни героев или России в целом.
На примере жизни Веры Павловны, Чернышевский, показывает путь мыслящей девушки к вершинам профессионального и вытекающего из него жизненного самоутверждения, а так же, из-за цензурных условий, в очень завуалированной форме показывает различные этапы, подготовки будущей, по его мнению, социалистической революции в России, строительство сначала социализма, а потом коммунизма, после того, когда эта революция произойдет.
Ключевое место, среди этих "снов", в романе занимает "Четвертый сон Веры Павловны", в котором Чернышевский развертывает картину светлого коммунистического будущего, в масштабе всей нашей планеты, когда, человечество, вновь обрело утраченную ранее на многие тысячелетия, прежнею гармоническую завершенность и полноту своей жизни.
Часть 3. "Четвертый сон Веры Павловны", как завершение и сюжетная основа романа Н. Г. Чернышевского "Что делать?", и подробное описание светлого коммунистического будущего человечества
Ключевое место среди "Снов Веры Павловны" занимает раздел "Четвертый сон Веры Павловны", в котором Чернышевский показывает картины торжества русского коммунистического будущего в масштабах всей планеты, когда вновь обретена утраченная ранее на многие тысячелетия, прежняя гармоническая завершённость и полнота первобытнообщинного коммунизма в условиях родоплеменного общинного строя или так нызаваемый "Золотой век Человечества"
Поэтому раздел "Четвёртый Сон Веры Павловны" является ядром и, по сути, основой содержания романа Н. Г. Чернышевского "Что делать?". Данный раздел, этого романа, находится в четвертой главе под названием "Второе замужество". Основное содержания "Четвертого Сна Веры Павловны", содержится в пунктах 8, 9,10, 11, раздела "Четвертый сон".
"Четвертый сон Веры Павловны", рисует картину коммунистического рая на планете Земля. Того, по словам автора "Золотого века", который возникнет на Земле, когда победит революция, которую автор в то время готовил, и пропаганде которой он и посвятил свой роман " Что делать?".
Однако поскольку, Н. Г. Чернышевский был сугубый материалист, и к тому же как он называл себя - материалист антропологический, то свой мир будущего, он, всё же населил не богами, а людьми, хотя на фоне его современников, эти люди будущего выглядели богами.
Этот, будущий "Золотой Век" а точнее "Золотая Эра Человечества", о котором в романе теоретически беседуют Лопухов и Кирсанов, воплощен в гигантском хрустальном дворце - саде, стоящем среди богатых тучных нив и садов, царства вечной весны, лета и радости.
Такими громадными домами в шахматном порядке покрыта вся преображенная освобожденным трудом Земля - планета "новых людей". В этих домах - дворцах, живут все вместе счастливые люди идеального будущего. Они вместе работают с песнями, вместе обедают, веселятся.
И, Чернышевский говорит устами богини свободной любви о светлом будущем, открывая его Вере Павловне и заодно всем своим бесчисленным читателям следующим образом: "Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести".
В "Четвертом сне Веры Павловны", Чернышевский рисует общество, в котором интересы каждого органически сочетаются с интересами всех. Это общество, где отсутствует эксплуатация человека человеком, где люди научился разумно управлять силами природы, где исчезло драматическое разделение между умственным и физическим трудом, все люди свободны, равноправны и гармонически развиты и потому могут свободно и освобожденные от нужды и повседневных жизненных забот они могут полностью раскрыть всё богатство своей личности. В этой части романа - читатель видит мир будущего, и этот мир, прекрасен во всем.
С удивительной проницательностью предвидел Чернышевский и то, что общество будущего освободит женщину от домашнего рабства и решит важные проблемы по обеспечению стариков и воспитанию молодого поколения.
Все это художественно воплощено автором вот в таких образах: "Здравствуй, сестра, - говорит она царице, - здесь и ты, сестра? говорит она Вере Павловне, - ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, - или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы - это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля, это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, - как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето.